Русская армия в Кавказской войне XVIII-XIX вв. Русский военный мундир XIX века
Читайте также
Военные мундиры в России как и в других странах возникли ранее всех прочих. Главными требованиями, которым они должны были удовлетворять, являлись функциональное удобство, единообразие по родам и видам войск, ясное отличие от армий других стран. Отношение к военному мундиру в России всегда было очень заинтересованным и даже любовным. Мундир служил напоминанием о боевой доблести, чести и высоком чувстве воинского товарищества. Считалось, что военная форма была самой нарядной и привлекательной
Не только исторические документы, но и художественные произведения, переносящие нас в дореволюционное прошлое, наполнены примерами взаимоотношений между военнослужащими разных чинов. Отсутствие понимания единой градации не мешает читателю вычленять основную тему произведения, однако, рано или поздно, приходится задуматься об отличии обращений Ваше благородие от Ваше превосходительство. Редко кто замечает, что в армии СССР обращение не было упразднено, оно лишь сменилось на единую для всех
Горжет представляет собой металлическую пластину в форме полумесяца размером примерно 20х12см., подвешиваемую горизонтально за концы на груди офицера возле горла. Предназначен для определения чина офицера. Чаще в литературе именуется как офицерский знак, шейный знак, офицерский нагрудный знак. Однако правильное название этого элемента военной одежды - горжет. В некоторых изданиях в частности в книге А.Кузнецова Награды горжет ошибочно считается коллективным наградным знаком. Однако это
До 6 апреля 1834 года они назывались ротами. 1827 года января 1 дня - На офицерских эполетах, для различия чинов, установлены кованые звездочки, как в это время введено в регулярных войсках 23 . 1827 года июля 10 дня - В Донских Конно-артиллерийских ротах установлены круглые помпоны у нижних чинов из красной шерсти, у офицеров серебряные рисунки 1121 и 1122 24 . 1829 года августа 7 дня - Эполеты на офицерском обмундировании установлены с чешуйчатым полем, по образцу
Документ относительно одежды армии, поданный генерал-фельдмаршалом князем Григорием Потемкиным-Таврическим на Высочайшее имя в 1782 году В прежния времена в Европе, как всяк, кто мог, должен был ходить на войну и, по образу тогдашняго бою, сражаться белым оружием, каждый, по мере достатка своего, тяготил себя железными бронями защиты таковыя простирались даже и до лошадей потом, предпринимая дальние походы и строясь в эскадроны, начали себя облегчать полныя латы пременялись на половинныя а
Эспантон протазан, алебарда Эспантон, протазан партазан, алебарда собственно являются старинным оружием древкового типа. Эспантон и протазан оружие колющее, а алебарда колюще-рубящее. К концу 17 века с развитием огнестрельного оружия все они уже безнадежно устарели. Трудно сказать, чем руководствовался Петр I, вводя на вооружение унтер-офицеров и офицеров пехоты вновь создаваемой Русской Армии эти древности. Вероятнее всего по образцу западных армий. Как оружие они не играли никакой роли,
Одежда военнослужащих устанавливается указами,приказами,правилами или специальными нормативными актами. Ношение военно-морской формы флотской формы одежды является обязательным для военнослужащих вооружённых сил государства и других формирований, где предусмотрена военная служба. В вооружённых силах России существует целый ряд принадлежностей, которые были в военно-морской форме одежды времен Российской империи. К ним относятся погоны, сапоги, длинные шинели с петлицами
Преемственность и новаторство в современной военной геральдике Первым официальным военным геральдическим знаком является учрежденная 27 января 1997 г. Указом Президента Российской Федерации эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации в виде золотого двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах меч, как наиболее общий символ вооруженной защиты Отечества, и венок символ особой важности, значимости и почета ратного труда. Эта эмблема была учреждена с целью обозначения принадлежности
В России с именем царя Петра I связаны многочисленные реформы и преобразования, кардинально изменившие патриархальный уклад гражданского общества. На смену бородам пришли парики, вместо лаптей и сапог пришли башмаки и ботфорты, кафтаны уступили место европейскому платью. Русская армия тоже при Петре I не осталась в стороне и постепенно перешла на европейскую систему экипировки. Одним из основных элементов обмундирования становится воинский мундир. Каждый род войск получает свою униформу,
Рассматривая все этапы создания вооруженных сил России, необходимо глубоко погрузиться в историю, и хоть во времена княжеств не идет речь о российской империи и уж тем более о регулярной армии, зарождение такого понятия, как обороноспособность начинается именно с этой эпохи. В XIII веке Русь была представлена отдельными княжествами. Их военные дружины хоть и были вооружены мечами, топорами, копьями, саблями и луками, но не могли служить надежной защитой от посторонних посягательств. Единая армия
Офицеры казачьих войск, состоящие при Управлении Военного Министерства парадная и праздничная форма. 7 мая 1869. Лейб гвардии Казачий полк походная форма. 30 сентября 1867. Генералы, числящиеся в армейских казачьих частях парадная форма. 18 марта 1855 г. Генерал-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме. 18 марта 1855 г. Флигель-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме. 18 марта 1855 г. Обер-офицеры
 Вступление на престол императора Александра I было ознаменовано изменением форменной одежды Российской армии. Новое обмундирование сочетало модные тенденции и традиции Екатерининского царствования. Солдаты облачились в мундиры фрачного покроя с высокими воротниками, штиблеты все чины заменили на сапоги. Егеря легкая пехота получили шляпы с полями, напоминающие штатские цилиндры. Характерной деталью нового обмундирования солдат тяжелой пехоты стала кожаная каска с высоким плюмажем
Вступление на престол императора Александра I было ознаменовано изменением форменной одежды Российской армии. Новое обмундирование сочетало модные тенденции и традиции Екатерининского царствования. Солдаты облачились в мундиры фрачного покроя с высокими воротниками, штиблеты все чины заменили на сапоги. Егеря легкая пехота получили шляпы с полями, напоминающие штатские цилиндры. Характерной деталью нового обмундирования солдат тяжелой пехоты стала кожаная каска с высоким плюмажем
Они не издают воинственного грохота, они не сверкают начищенной поверхностью, не украшены чеканными гербами и плюмажами и довольно часто вообще спрятаны под пиджаками. Однако сегодня без этих доспехов, неказистых с виду, просто немыслимо отправлять в бой солдат или обеспечить безопасность VIP-персон. Бронежилет одежда, которая предотвращает проникновение в тело пули и, следовательно, защищающая человека от выстрелов. Он изготавливается из материалов, которые рассеивают
Погоны царской армии 1914 года редко упоминаются в художественных фильмах и исторических книгах. Между тем это интересный объект изучения в императорский век, время правления царя Николая Второго, обмундирование было объектом искусства. До начала Первой мировой войны отличительные знаки Русской армии существенно отличались от тех, что используются сейчас. Они были более яркими и содержали больше информации, но в то же время не обладали функциональностью были легко заметны как в полевом
Очень часто в кинематографе и классической литературе встречается звание поручик. Сейчас такого звания в российской армии нет, поэтому много людей интересуются поручик это какое звание в соответствии с современными реалиями. Для того чтобы понять это, нужно обратиться к истории. История возникновения чина Такой чин, как поручик, до сих пор существует в армии других государств, но в армии РФ его нет. Впервые он был принят в 17 веке в полках, приведенных к европейскому стандарту.
 ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,
в 22-й день Февраля и 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил
1. Генералам, Штаб и Обер-офицерам и нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказских, и кроме гвардейских казачьих частей, а равно гражданским чиновникам, состоящим на службе в казачьих войсках и в областных правлениях и управлениях на службе Кубанской и Терской областей, поименованным в 1-8 статьях прилагаемого списка приложение 1 иметь форму обмундирования по прилагаемым при сем
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,
в 22-й день Февраля и 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил
1. Генералам, Штаб и Обер-офицерам и нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказских, и кроме гвардейских казачьих частей, а равно гражданским чиновникам, состоящим на службе в казачьих войсках и в областных правлениях и управлениях на службе Кубанской и Терской областей, поименованным в 1-8 статьях прилагаемого списка приложение 1 иметь форму обмундирования по прилагаемым при сем
 Армия - это вооруженная организация государства. Следовательно, главное отличие армии от иных государственных организаций в том, что она вооружена, то есть для выполнения своих функций имеет комплекс различных видов оружия и средств, обеспечивающих его применение. На вооружении русской армии в 1812 году состояло холодное и огнестрельное оружие, а также защитное вооружение. К холодному оружию, боевое использование которого не связано с применением взрывчатых веществ для рассматриваемого периода -
Армия - это вооруженная организация государства. Следовательно, главное отличие армии от иных государственных организаций в том, что она вооружена, то есть для выполнения своих функций имеет комплекс различных видов оружия и средств, обеспечивающих его применение. На вооружении русской армии в 1812 году состояло холодное и огнестрельное оружие, а также защитное вооружение. К холодному оружию, боевое использование которого не связано с применением взрывчатых веществ для рассматриваемого периода -
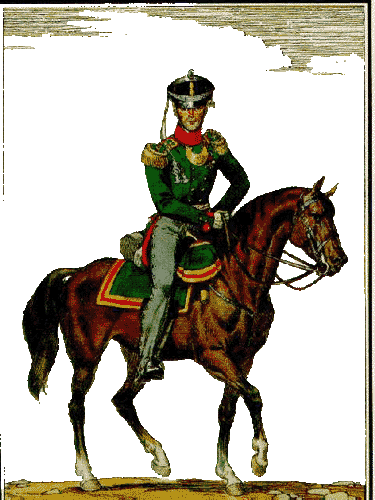 В захватнические войны, которые непрерывно вел император Франции Наполеон Бонапарт в начале прошлого столетия, были втянуты почти все страны Европы. За короткий в историческом плане период 1801-1812 он сумел подчинить своему влиянию практически всю Западную Европу, но этого ему было мало. Император Франции претендовал на мировое господство, а главным препятствием на его пути к вершине мировой славы стала Россия. Через пять лет я буду господином мира, - заявлял он в амбициозном порыве,
В захватнические войны, которые непрерывно вел император Франции Наполеон Бонапарт в начале прошлого столетия, были втянуты почти все страны Европы. За короткий в историческом плане период 1801-1812 он сумел подчинить своему влиянию практически всю Западную Европу, но этого ему было мало. Император Франции претендовал на мировое господство, а главным препятствием на его пути к вершине мировой славы стала Россия. Через пять лет я буду господином мира, - заявлял он в амбициозном порыве,
 В Отечественной войне 1812 года участвовали 107 казачьих полков и 2,5 казачьи конно-артиллерийские роты. Они составляли иррегулярные поиска, то есть часть вооруженных сил, не имевшую постоянной организации и отличавшуюся от регулярных воинских формирований комплектованием, прохождением службы, обучением, обмундированием. Казаки являлись особым военным сословием, которое включало население отдельных территорий России, составлявшее соответствующее казачье войско Донское, Уральское, Оренбургское,
В Отечественной войне 1812 года участвовали 107 казачьих полков и 2,5 казачьи конно-артиллерийские роты. Они составляли иррегулярные поиска, то есть часть вооруженных сил, не имевшую постоянной организации и отличавшуюся от регулярных воинских формирований комплектованием, прохождением службы, обучением, обмундированием. Казаки являлись особым военным сословием, которое включало население отдельных территорий России, составлявшее соответствующее казачье войско Донское, Уральское, Оренбургское,
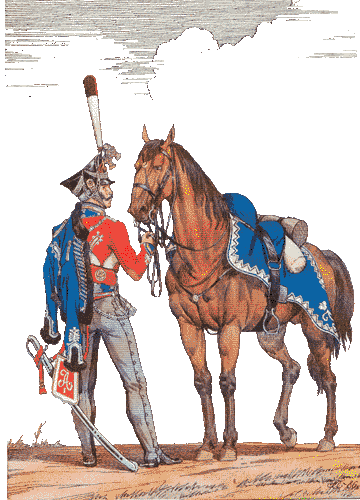 Русская армия, которой принадлежит честь победы над наполеоновскими полчищами в Отечественной войне 1812 года, состояла из нескольких видов вооруженных сил и родов войск. К видам вооруженных сил относились сухопутные войска и военно-морской флот. Сухопутные войска включали несколько родов войск пехоту, кавалерию, артиллерию и пионеров, или инженеров ныне саперы.
Вторгнувшимся войскам Наполеона на западных границах России противостояли 3 русские армии 1-я Западная под командованием
Русская армия, которой принадлежит честь победы над наполеоновскими полчищами в Отечественной войне 1812 года, состояла из нескольких видов вооруженных сил и родов войск. К видам вооруженных сил относились сухопутные войска и военно-морской флот. Сухопутные войска включали несколько родов войск пехоту, кавалерию, артиллерию и пионеров, или инженеров ныне саперы.
Вторгнувшимся войскам Наполеона на западных границах России противостояли 3 русские армии 1-я Западная под командованием
В царствование Александра III не было ни войн, ни больших сражений. Все решения по внешней политике принимались лично Государем. Была даже упразднена должность государственного канцлера. Во внешней политике Александр III взял курс на сближение с Францией, а в деле строительства армии большое внимание было уделено воссозданию морского могущества России. Император понимал, что отсутствие сильного флота лишило Россию значительной части ее великодержавного веса. В годы его правления было положено начало
 Наука о древнем русском вооружении имеет давнюю традицию она зародилась с момента находки в 1808 году на месте знаменитой Липицкой битвы 1216 шлема и кольчуги, возможно, принадлежавших князю Ярославу Всеволодовичу. Историки и специалисты по изучению древнего оружия прошлого столетия А. В. Висковатов, Э. Э. Ленц, П. И. Савваитов, Н. Е. Бранденбург придавали немалое значение сбору и классификации предметов воинского снаряжения. Они же начали расшифровку и его терминологии, включав-. шей
Наука о древнем русском вооружении имеет давнюю традицию она зародилась с момента находки в 1808 году на месте знаменитой Липицкой битвы 1216 шлема и кольчуги, возможно, принадлежавших князю Ярославу Всеволодовичу. Историки и специалисты по изучению древнего оружия прошлого столетия А. В. Висковатов, Э. Э. Ленц, П. И. Савваитов, Н. Е. Бранденбург придавали немалое значение сбору и классификации предметов воинского снаряжения. Они же начали расшифровку и его терминологии, включав-. шей
 Военная форма это не только одежда, которой положено быть достаточно удобной, прочной, практичной и легкой, чтобы человек, несущий тяготы ратной службы, был надежно защищен от превратностей погоды и климата, но и своего рода визитная карточка любой армии. С тех пор как униформа появилась в Европе в XVII веке, представительская роль мундира была очень высока.
Мундир в старину говорил о том, в каком чине состоял его носитель и к какому роду войск он принадлежал, а то и
Военная форма это не только одежда, которой положено быть достаточно удобной, прочной, практичной и легкой, чтобы человек, несущий тяготы ратной службы, был надежно защищен от превратностей погоды и климата, но и своего рода визитная карточка любой армии. С тех пор как униформа появилась в Европе в XVII веке, представительская роль мундира была очень высока.
Мундир в старину говорил о том, в каком чине состоял его носитель и к какому роду войск он принадлежал, а то и
Собственный Его Императорского Величества Конвой формирование русской гвардии, осуществлявшее охрану царской особы. Основным ядром конвоя были казаки Терского и Кубанского казачьих войск. В Конвое также служили черкесы, ногайцы, ставропольские туркмены, другие горцы-мусульмане Кавказа, азербайджанцы команда мусульман, с 1857 года четвёртый взвод Лейб-Гвардии Кавказского эскадрона, грузины, крымские татары, другие народности Российской Империи. Официальной датой основания конвоя
 От автора. В данной статье проводится краткий экскурс в историю возникновения и развития обмундирования Сибирского казачьего войска. Более подробно рассмотрена казачья форма эпохи царствования Николая II, - форма, в которой Сибирское казачье войско ушло в историю.
Материал предназначен для начинающих историков-униформистов, военно-исторических реконструкторов и для современных казаков-сибирцев.
На снимке слева войсковой знак Сибирского казачьего войска
От автора. В данной статье проводится краткий экскурс в историю возникновения и развития обмундирования Сибирского казачьего войска. Более подробно рассмотрена казачья форма эпохи царствования Николая II, - форма, в которой Сибирское казачье войско ушло в историю.
Материал предназначен для начинающих историков-униформистов, военно-исторических реконструкторов и для современных казаков-сибирцев.
На снимке слева войсковой знак Сибирского казачьего войска
Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1741-1788 годов В связи с тем, что иррегулярная конница, а точнее казаки, в полной мере справлялась с поставленными перед ней задачами по разведке, патрулированию, преследованию и выматыванию противника бесконечными налетами и стычками, долгое время в Российской армии не было особой необходимости в регулярной легкой кавалерии. Первые официальные гусарские части в составе Российской армии появились во время царствования императрицы
 Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1796-1801 годов
В предыдущей статье мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II с 1741 по 1788 год.
После того, как Павел I взошел на престол, он возродил армейские гусарские полки, однако ввел в их униформу прусско-гатчинские мотивы. Причем, с 29 ноября 1796 года названия гусарских полков стали по фамилии их шефа
прежнее название
Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1796-1801 годов
В предыдущей статье мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II с 1741 по 1788 год.
После того, как Павел I взошел на престол, он возродил армейские гусарские полки, однако ввел в их униформу прусско-гатчинские мотивы. Причем, с 29 ноября 1796 года названия гусарских полков стали по фамилии их шефа
прежнее название
Униформа гусар Российской Императорской армии 1801-1825 годов В двух предыдущих статьях мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков 1741-1788 и 1796-1801 годов. В этой статье мы расскажем о гусарской униформе времен царствования императора Александра I. Итак, приступим... 31 марта 1801 года всем гусарским полкам армейской кавалерии были присвоены следующие названия гусарский полк новое название Мелиссино
Униформа гусар Российской Императорской армии 1826-1855 годов Продолжаем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков. В предыдущих статьях мы провели обзор гусарской униформы 1741-1788, 1796-1801 и 1801-1825 годов. В настоящей статье мы расскажем об изменениях, произошедших в эпоху правления императора Николая I. В 1826-1854 годах были переименованы, созданы или расформированы следующие гусарские полки год прежнее название
 Униформа гусар Российской Императорской армии 1855-1882 годов
Продолжаем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков. В предыдущих статьях мы познакомились с гусарской униформой 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825 и 1826-1855 годов.
В этой статье мы расскажем об изменениях в униформе русских гусар, которые произошли в эпоху правления императоров Александра II и Александра III.
7 мая 1855 года в униформу офицеров армейских гусарских полков были внесены следующие изменения
Униформа гусар Российской Императорской армии 1855-1882 годов
Продолжаем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков. В предыдущих статьях мы познакомились с гусарской униформой 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825 и 1826-1855 годов.
В этой статье мы расскажем об изменениях в униформе русских гусар, которые произошли в эпоху правления императоров Александра II и Александра III.
7 мая 1855 года в униформу офицеров армейских гусарских полков были внесены следующие изменения
 Униформа гусар Российской Императорской армии 1907-1918 годов
Заканчиваем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825, 1826-1855 и 1855-1882 годов.
В последней статье цикла расскажем об униформе восстановленных армейских гусарских полков в царствование Николая II.
С 1882 по 1907 годы в Российской империи существуют только два гусарских полка, оба в Императорской Гвардии Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк и Лейб-гвардии Гродненский
Униформа гусар Российской Императорской армии 1907-1918 годов
Заканчиваем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825, 1826-1855 и 1855-1882 годов.
В последней статье цикла расскажем об униформе восстановленных армейских гусарских полков в царствование Николая II.
С 1882 по 1907 годы в Российской империи существуют только два гусарских полка, оба в Императорской Гвардии Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк и Лейб-гвардии Гродненский
 Есть версия, что предтечей улан была лёгкая кавалерия армии завоевателя Чингис-хана, особые отряды которой назывались огланами и использовались, в основном, для разведки и аванпостной службы, а также для внезапных и стремительных нападений на неприятеля с целью расстроить его ряды и подготовить атаку основных сил.
Важной частью вооружения оглан были пики, украшенные флюгерами.
В царствование императрицы Екатерины II было принято решение сформировать полк тот, который представляется содержать
Есть версия, что предтечей улан была лёгкая кавалерия армии завоевателя Чингис-хана, особые отряды которой назывались огланами и использовались, в основном, для разведки и аванпостной службы, а также для внезапных и стремительных нападений на неприятеля с целью расстроить его ряды и подготовить атаку основных сил.
Важной частью вооружения оглан были пики, украшенные флюгерами.
В царствование императрицы Екатерины II было принято решение сформировать полк тот, который представляется содержать
 Артиллерия издавна играла важную роль в армии Московской Руси. Несмотря на сложности с перевозкой орудий при вечном российском бездорожье, основное внимание уделялось литью тяжелых пушек и мортир - орудий, которые можно было применять при осадах крепостей.
При Петре I некоторые шаги к реорганизации артиллерии были предприняты еще в 1699 году, но только после нарвского поражения к ней приступили со всей серьезностью. Орудия начали сводить в батареи, предназначенные для полевых сражений, обороны
Артиллерия издавна играла важную роль в армии Московской Руси. Несмотря на сложности с перевозкой орудий при вечном российском бездорожье, основное внимание уделялось литью тяжелых пушек и мортир - орудий, которые можно было применять при осадах крепостей.
При Петре I некоторые шаги к реорганизации артиллерии были предприняты еще в 1699 году, но только после нарвского поражения к ней приступили со всей серьезностью. Орудия начали сводить в батареи, предназначенные для полевых сражений, обороны
 1
Донской наказной атаман, XVII век
Донское казацтво XVII века состояло из старых казаков и голоты.
Старыми казаками считались те, кто происходил из казацких семей XVI века и родился на Дону.
Голотой называли казаков в первом поколении. Голота, которой везло в боях, богатела и становилась старыми казаками.
Дорогой мех на шапке, шолковый кафтан, зипун с яркого заморского сукна, сабля и огнестрельное оружие - пищаль или карабин были показателями
1
Донской наказной атаман, XVII век
Донское казацтво XVII века состояло из старых казаков и голоты.
Старыми казаками считались те, кто происходил из казацких семей XVI века и родился на Дону.
Голотой называли казаков в первом поколении. Голота, которой везло в боях, богатела и становилась старыми казаками.
Дорогой мех на шапке, шолковый кафтан, зипун с яркого заморского сукна, сабля и огнестрельное оружие - пищаль или карабин были показателями
 Военной униформой называют одежду, установленного правилами или специальными указами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск. Форма символизирует функцию её носителя и его принадлежность к организации. Устойчивое словосочетание честь мундира означает воинскую или вообще корпоративную честь. Еще в римской армии солдатам выдавали одинаковое оружие и доспехи. В Средневековье на щитах было принято изображать герб города, королевства или феодала,
Военной униформой называют одежду, установленного правилами или специальными указами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск. Форма символизирует функцию её носителя и его принадлежность к организации. Устойчивое словосочетание честь мундира означает воинскую или вообще корпоративную честь. Еще в римской армии солдатам выдавали одинаковое оружие и доспехи. В Средневековье на щитах было принято изображать герб города, королевства или феодала,
 Целью российского царя Петра Великого, которой были подчинены все экономические и административные ресурсы империи, было создание армии, как эффективнейшей государственной машины.
Армию, которую унаследовал царь Петр, с трудом воспринимавшую военную науку современной ей Европы, армией можно назвать с большой натяжкой, а кавалерии в ней было значительно меньше, чем в армиях европейских держав.
Известны слова одного из русских дворян конца XVII века
На конницу смотреть стыдно лошади
Целью российского царя Петра Великого, которой были подчинены все экономические и административные ресурсы империи, было создание армии, как эффективнейшей государственной машины.
Армию, которую унаследовал царь Петр, с трудом воспринимавшую военную науку современной ей Европы, армией можно назвать с большой натяжкой, а кавалерии в ней было значительно меньше, чем в армиях европейских держав.
Известны слова одного из русских дворян конца XVII века
На конницу смотреть стыдно лошади
От автора. В настоящей статье автор не претендует на полное освещение всех вопросов, связанных с историей, униформой, снаряжением и структурой русской армейской кавалерии, а лишь попытался кратко рассказать о видах униформы в 1907-1914 г.г. Желающие более углубленно познакомиться с униформой, бытом, нравами и традициями русской армейской кавалерии могут обратиться к первоисточникам, приведенным в списке литературы к настоящей статье. ДРАГУНЫ В начале XX века русская кавалерия считалась
Корпус военных топографов был создан в 1822 году с целью топографического топогеодезического обеспе чения вооружённых сил, проведения государственных картографических съёмок в интересах как вооружённых сил, так и государства в целом, под руководством военно-топографического депо Главного штаба, как единого заказчика картографической продукции в Российской империи. Обер-офицер Корпуса военных топографов в полукафтане времен
В самом конце XVII в. Петром I было принято решение о переустройстве русской армии по европейскому образцу. Основой для будущей армии послужили Преображенский и Семеновский полки, которые уже в августе 1700 г. образовали Царскую Гвардию. Униформа солдат фузилеров Лейб-гвардии Преображенского полка состояла из кафтана, камзола, штанов, чулок, башмаков, галстука, шляпы и епанчи. Кафтан см. изображение внизу из темно-зеленого сукна, длиной до колен, вместо воротника имел суконную, того
В период Первой мировой войны 1914-1918 годов в Российской Императорской армии широкое распространение получили кителя произвольных образцов подражания английским и французским моделям, получившие общее наименование френч по имени английского генерала Джона Френча. Особенности конструкции френчей в основном заключались в конструкции воротника мягкого отложного, или мягкого стоячего с застежкой на пуговички подобно воротнику русской гимнастерки регулируемой ширине обшлага с помощью
 1
Полуголова московских стрельцов, XVII век
В середине XVII века московские стрельцы составляли отдельный корпус в составе стрелецкого войска.
Организационно они были поделены на приказы полки, которые возглавляли головы полковники и полуголовы майоры подполковники.
Каждый приказ делился на сотни роты, которыми командовали сотники капитаны.
Офицеров от головы до сотника своим указом назначал царь из дворян.
Роты, в свою очередь, делились на два взвода пятидесяты
1
Полуголова московских стрельцов, XVII век
В середине XVII века московские стрельцы составляли отдельный корпус в составе стрелецкого войска.
Организационно они были поделены на приказы полки, которые возглавляли головы полковники и полуголовы майоры подполковники.
Каждый приказ делился на сотни роты, которыми командовали сотники капитаны.
Офицеров от головы до сотника своим указом назначал царь из дворян.
Роты, в свою очередь, делились на два взвода пятидесяты
В первой половине 1700 г. были сформированы 29 пехотных полков, а 1724 г. их число возросло до 46. Униформа полков армейской полевой пехоты по своему покрою ничем не отличалась от гвардейской, но в расцветке сукна, из которого шились кафтаны, была чрезвычайная пестрота. В некоторых случаях солдаты одного и того же полка были одеты в форму разных цветов. До 1720 г. весьма распространенным головным убором был картуз см. рис. ниже. Он состоял из тульи цилиндрической формы и околыша, пришитого
В 1711 году в российской армии среди других должностей появились две новые должности - флигель-адъютант и генерал-адъютант. Это были особо доверенные военнослужащие, состоящие при высших военачальниках, а с 1713 года и при императоре, выполненявшие ответственные поручения и контролировавшие исполнение приказаний, отданных военачальником. Позднее при создании в 1722 году Табели о рангах в нее были внесены, соответственно, и эти должности. Для них были определены классы, и они были приравнены
 С 1883 года казачьим частям стали жаловать только штандарты, полностью соответствующие по размерам и изображениям кавалерийским штандартам, при этом полотнище делалось по цвету мундира войска, а кайма по цвету приборного сукна.
С 14 марта 1891 г. казачьим частям жаловали знамена уменьшенного размера, то есть те же штандарты, но на черных знаменных древках.
Стяг 4-й Донской казачьей дивизии. Россия. 1904 г.
Образец 1904 г. полностью соответствует аналогичному образцу кавалерийских
С 1883 года казачьим частям стали жаловать только штандарты, полностью соответствующие по размерам и изображениям кавалерийским штандартам, при этом полотнище делалось по цвету мундира войска, а кайма по цвету приборного сукна.
С 14 марта 1891 г. казачьим частям жаловали знамена уменьшенного размера, то есть те же штандарты, но на черных знаменных древках.
Стяг 4-й Донской казачьей дивизии. Россия. 1904 г.
Образец 1904 г. полностью соответствует аналогичному образцу кавалерийских
В обмундировании войск того времени совершенно забывалось главное назначение одежды для солдата: дать ему укрытие от непогоды, сохранить его силы и здоровье и дать возможность удобно передвигаться и удобно действовать оружием. Ни одному из этих условий обмундирование наших войск не удовлетворяло. В формах одежды преследовалась только одна цель - грозный вид всего строя и воинственный и красивый вид каждого воина, взятого в отдельности. Поэтому войска наряжали в предметы крайне неудобные и по большой части не только бесполезные во время войны, но даже и вредные .
Впрочем, такой взгляд на обмундирование и снаряжение солдата не был исключительной принадлежностью нашей армии того времени. Лишь много позднее Крымской войны , в начале шестидесятых годов, под влиянием опытов французского военного министерства, начал приобретать повсюду права гражданства вопрос о соответствии ноши солдата его силам и о гигиеничности его обмундирования.

Наша армия перед Крымской войной была одета следующим образом : мундиры узкие, с перехватом в талии, двубортные, с лацканами для гвардии и улан и однобортные для остальных; они были длиной только до талии, с фалдами сзади; рукава узкие, с перехватом у кисти; воротники высокие, стоячие, без выреза спереди; они застегивались доверху на крючки и, плотно охватывая шею, заставляли голову держать неподвижно. В гусарских полках существовали доломаны, ментики, куртки и венгерки, со жгутами на груди. В войсках Кавказского корпуса мундиры были с фалдами кругом. Шаровары, суконные зимой и полотняные летом; в кавалерии рейтузы в обтяжку. Шаровары, кроме походов, всегда носились навыпуск. Шинели длинные, однобортные, со стоячим воротником, шились в талию, в обтяжку, так что под шинель, кроме мундира, ничего нельзя было поддеть. На походе полы шинелей для удобства подгибались на высоту колен, а иногда углы их отворачивались в стороны и пристегивались у пояса, открывая таким образом ноги почти до пояса.
Солдатское мундирное сукно было толстое, без ворса, черного цвета, по качеству очень схожее с нынешним шинельным сукном. О качестве же шинельного сукна того времени можно судить уже по тому только, что шинель, весившая обыкновенно около 8½, фунта, после дождя весила до 23 фунтов .
Головные уборы у большей части войск состояли из касок черной лакированной кожи, с двумя козырьками, подборной чешуей, большим гербом и многими медными украшениями. Каски весили более двух фунтов, связывали солдата и делали его неподвижным; нагретые солнцем, они причиняли головную боль и мешали стрелять. Их медные украшения делали войска видимыми издали. Этот головной убор был настолько стеснителен, что в начале войны разрешено было в походе их бросить и ограничиться только фуражками , похожими на нынешние, которые в обыкновенное время предназначались для домашнего обихода. У гусар головными уборами служили высокие кивера, в виде усеченных конусов широким основанием кверху; уланы имели кивер такой же высоты, но с перехватом в средней части и с четырехугольным верхом. Высокие головные уборы в кавалерии были также обременительны и мешали, особенно драгунам, снимать ружья со спины. По отзывам современников, лучшим головным убором был уланский. Кавказские войска вместо касок имели низкие круглые шапки из овечьего меха с суконным верхом.
Неудобство существовавших головных уборов , впрочем, сознавалось и нашей военной администрацией, которая изыскивала лучшие образцы для введения их в армии .
Архив канц. Воен. мин. 1854 г., секр. д. № 150.
Висковатов. Ист. опис. од. и воор. росс, войск, изд. 1862 г.
Воен. сборн. 1862 г., № 3.
Архив канц. Воен. мин., 1855 г., секр. д. № 9.
Архив воен. уч. ком. Гл. шт., отд. 2, д. № 4328. Письмо воен. мин. князю Меншикову 6 октября 1854 г.
Литература:
Восточная война 1853-1856. Соч. генерала от инфантерии А.М. Зайончковского. Глава 11. Организация русских военно-сухопутных сил к началу Восточной войны
«Восточная война 1853-1856 гг.: Униформа французской армии В отличие от русского (исключая Отдельный Кавказский корпус) и британского...»
-- [ Страница 1 ] --
Восточная война 1853-1856 гг.:
Униформа французской армии
В отличие от русского (исключая Отдельный Кавказский корпус) и британского
военного мундира, обмундирование французской армии среди всех участниц Крымской
войны, пожалуй, наиболее было приспособлено к военным действиям, в чем, несомненно,
следует рассматривать плодотворное влияние традиций многолетних кампаний в Алжире.
Кроме того, французы (вероятно, своевременно припомнив морозы войны 1812 года) неплохо подготовились к кампании, не только организовав адекватную обстановке медицинскую службу, но и снабдив свои войска палатками и зимним обмундированием.
Э. Нолан замечал: “Французы вовремя приготовились к зиме. Прибыли шинели с капюшонами [т. н. “крымские шинели”], которые восхитили солдат; и эти эксцентричные сыны Марса, зуавы, выглядят еще более эксцентричными в этом новом облачении. Также были распределены из французских запасов обмундирования овчинные куртки по-татарски [полушубки], ставшие источником комфорта для носителей и развлечения для наблюдателей”. К тому же, французы (“с прирожденной изобретательностью французского солдата”) не стеснялись улучшать и пополнять свой гардероб, раздевая собственных, союзных и неприятельских покойников. Особенно ценились одеяла и русские шинели, полушубки и, конечно, сапоги. Тем не менее, Крымская зима французам запомнилась надолго, и многие сравнивали ее (вряд ли заслуженно, впрочем) “с отступлением из Москвы”. “Однако…, в сорок лет не пропал грозный урок – все помнили о нашей сердитой зиме”.
Сами французы, кстати, довольно скептически оценивали состояние своей службы снабжения. Через несколько лет Наполеон III констатировал: “Во Франции никогда не готовы воевать”. (Император оказался пророком – правда, он мог утешиться тем, что его страна не была исключением.) Это говорит о том, что внешний вид солдата в походе характеризовался отсутствием того, что ему теоретически должны были выдать при отбытии на театр военных действия. Так, в мае 1854 г. маршал Сент-Арно, фактически подтверждая и развивая (еще не высказанную) мысль своего монарха, писал: “Не воюют без хлеба, без башмаков, без кастрюль и без фляг; мне оставили 40 кастрюль и примерно 250 фляг”.
Генералитет 1 Маршал А.-Ж. Леруа де Сент-Арно по приобретенному в Алжире обычаю носил “феси” – обычное кепи, но без козырька. (Некоторые образцы, впрочем, походили на британскую фуражную шапку “Килмарнок”.) Тулья и донце из красного бархата, околыш
– из бархата темно-синего. Чин легко распознается по девяти горизонтальным золотым шнуркам, кругом верхней части околыша, и по пяти вертикальным, на тулье – на два больше, чем у дивизионного генерала. На донце размещен венгерский узел из трех шнуров. Пелисье (фотография 7 июня 1855 г.), новый командующий Восточной армией, носил “феси” дивизионного генерала, с семью галунами.
На дивизионном (с июня 1855 г.) генерале Ж.-Э. де ла Моттеруже при штурме Малахова кургана были кепи бригадного генерала (один ряд шитья, шириной 25 мм) с подбородным ремнем и вседневный полукафтан образца 1847 г. без шитья. Полукафтан Регламентированная генеральская униформа практически не отличалась от описанной ранее на 1870 год. Только мундир в период Крымской войны еще шили из темно-синего, а не черного сукна, а воротник (средняя высота 60 мм) на нем был с вырезом на 70 мм спереди. Шитье маршалов на кепи и мундирном воротнике шло в три ряда, шириной 17, 10 и 8 мм. Высота шляпы тогда составляла 140 мм спереди и 205 мм сзади. Используемая на войне сабля образца 1844 г. украшалась на оправе звездочками согласно чину; темляк был шпажный, но с черной шелковой тесьмой.
застегивался на девять больших форменных пуговиц и имел контр-погончики как на мундире. Обшлага были прямые (как здесь) или, реже, мыском. Этот полукафтан служил походной формой маршалам и генералам Второй империи. На форме Моттеружа присутствуют эполеты и неуставная поясная портупея шпаги (крытой золотым галуном с пунцовыми просветами) с S-образной застежкой между двумя медальонами (с выпуклой головой Медузы).
На фотографии Роджера Фентона 2 (№ 207) начальник штаба Боске, генерал Сиссе показан в кепи (кажется со сплошным очень широким галуном по верху околыша), вседневном полукафтане (застегнутым только на одну пуговицу) при аксельбанте и эполетах, однобортном жилете (на пуговичках) и мешковатых панталонах навыпуск с лампасом.
Сам Боске (на снимке № 258) одет в такой же повседневный полукафтан с эполетами (но с тремя пуговицами у обшлагов вместо двух) поверх жилета с черной поясной портупеей (с S-образной застежкой). Кепи генерала – с тремя галунами по тулье, венгерским узлом на донце и генеральским шитьем на околыше. Панталоны, что интересно, мундирного цвета с красной выпушкой. На других фото (№ 81х и 119) Боске отдает приказы своему штабу – на генерале та же форма, что и на предшествующем изображении, а обут он в черные кожаные сапоги до колен со шпорами. Позируя фотографу верхом на Байяре (№ 278), с чепраком и чушками (из леопардового меха), Боске надел парадную шляпу с галуном и опоясался галунной портупеей с длинной прямой шпагой.
Генерал д’Отмар (командир 1-й дивизии 1-го корпуса) весной 1856 г. носил “небольшую бородку. Это собственно было не по форме: форма требовала эспаньолки 3, а не бороды; но в Крыму кто думал о формах? На нем был однобортный сюртук с эполетами, имевшими шитое поле, с тремя большими звездочками, что и означало дивизионного генерала. … Воротник был также шитый”. Начальник штаба при Пелисье, дивизионный генерал де Мартимпре, носил “сюртук с эполетами и аксельбантом, как и у всех, состоящих при штабе”.
“Офицеры, в сюртуках или в [черных] куртках, шитых шнурками. Эти куртки приняты в штабе и составляют род формы. Их носят, впрочем, только молодые офицеры, походя тогда на гусаров”. На куртку могли накидывать синюю “крымскую шинель”. Остальные офицеры Генштаба были “в сюртуке с эполетами и в неизменных красных брюках с черным лампасом, что означало принадлежность к Главному штабу”.
Головным убором штабному корпусу служило кепи с малиновой тульей, темно-синим околышем, фальшивым позолоченным ремешком, венгерским узлом на донце и с галунами по званию.
Императорская Гвардия Указом от 1 мая 1854 г. “Императорская Гвардия восстанавливается”. Из солдат элитных рот, выделенных каждым линейным полком, были сформированы два гренадерских и два вольтижерских полка. Состав их был положен в три батальона по 8 рот (17 февраля следующего года количество батальонов увеличено до четырех). И уже в конце января 1855 г. Гвардейская временная бригада (1-е батальоны всех четырех пехотных полков) высаживалась в Крыму. На март месяц в гвардейском контингенте состояли также 4 роты егерей и 2 батальона зуавов, а также 2 конных батареи и рота инженеров.
18 мая к ним присоединилась под Севастополем новая бригада, в результате чего была создана Гвардейская дивизия:
Все они относятся к 1855 г.
Напротив, маршал Пелисье был “с небольшими седыми усами и такою же эспаньолкой”, надев для посещения русского лагеря 1 (13) апреля 1856 г. парадную “шляпу, обложенную белым плюмажем”.
1-я бригада: батальон пеших егерей, по три батальона 1-го и 2-го вольтижерских полков.
2-я бригада: полк зуавов, по три батальона от 1-го и 2-го гренадерских полков.
Полк пеших жандармов (2 батальона), 4 (1-я, 2-я, 7-я бис и 8-я бис) пеших и 4 (1, 2, 3 и 4-я) конных (Гвардейского полка конной артиллерии) батареи, инженерная рота, обозная рота.
1-я бригада: зуавский, 1-й и 2-й вольтижерские полки.
2-я бригада: пеший егерский батальон, 1-й и 2-й гренадерские полки.
1-я и 2-я батареи пешей артиллерии. Всего же в Крыму действовали 4 батареи Гвардейского полка пешей артиллерии.
Гвардейская (иногда упоминается под названием 1-й гвардейской) инженерная рота.
В Крыму Гвардия провела почти год – ее первые части оставили столицу в январе 1855 г., и 29 декабря того же года все крымские ветераны вступили в Париж.
Гвардейскую кавалерию Наполеон так и не решился отправить в Крым. Полк Гидов, правда, должен был сопровождать туда Императора (март 1855 г.), но, поскольку визит не состоялся, Гиды остались во Франции. Однако, полк Конных егерей был образован (по указу от 20 декабря 1855 г.) и формировался именно в Крыму. Его составили 4 эскадрона легкой кавалерии Восточной армии и 2 эскадрона упраздненного 4-го полка африканских егерей. (Униформа Егерей практически не отличалась от описанной на 1870 год.) Тогда же в Крыму были созданы три первых батальона каждого из новых полков гвардейской пехоты – 3-го гренадерского и 3-го и 4-го вольтижерских.
За указом о создании Гвардии (1 мая 1854 г.) последовало описание ее униформы, опубликованное 19 июня. Его авторы в основу положили имперские традиции Наполеона I, отдав предпочтение мундиру-фраку и плечевым перевязям перед полукафтаном и поясным ремнем, введенным в армии девятью годами ранее. Интересно, что подобное стремление к архаике и склонность сохранить традиции сыграли с французами злую шутку в Крыму. Дело в том, что когда пехота гвардии была впервые введена в бой под Севастополем и, потерпев неудачу, отступала к своим позициям, французский резерв открыл по гвардейцам огонь, приняв “их по белым перевязям за русских мушкатеров”.
Более того, “говорят, наши, подойдя довольно близко к гвардейцам и заметив белые перевязи, которых до сих пор не видали у Французов, закричали им: «Кто вы, наши что ли? говорите, а то будем стрелять!» Оттуда отвечали по-русски не совсем чисто:
наши, наши! – и тогда уже Подольцы пошли на штыки”. “Русский инвалид” за 18 июня 1855 г. (№ 133) перепечатал сообщение газеты “L"etoile Belge” о том, что многие французские гвардейцы, благодаря своим белым ремням, резко выдающимся на фоне темных шинелей и черных ремней прочей пехоты, стали легкой мишенью для русских стрелков. Поэтому, сочтено было необходимым избавиться от предательских перевязей и изготовлять их отныне из простых ремней или веревок.
Также следует учитывать то, что уже в 1856-1857 гг. униформа гвардейской пехоты претерпела определенные изменения, что не всегда учитывается авторами при описании ее внешнего вида в Крыму. Гренадеры в 1854 г. получили шапку в виде кожаного каркаса, крытого черным медвежьим мехом. Размеры шапки: высота 30 см, ширина 25 см
– меньше, чем ее предшественница в годы Первой империи. Донце алого сукна, с вышитой белой гренадой. На медной бляхе присутствовал выпуклый коронованный орел (на фоне в виде солнечных лучей), восседавший на гренаде с прорезным номером полка в бомбе. Подбородный ремень из 59 переплетенных колец на кожаной основе. В парадной форме к шапке присоединялся белый этишкет, удерживаемый на головном уборе одним крючком справа вверху и другим – слева, у основания. Алый султан (высота 24 см) крепился слева, но в походной форме его снимали, оставляя только шерстяной помпонкокарду.
Вольтижеры довольствовались кивером (высота 170 мм спереди и 200 мм сзади), обшитым темно-синим сукном. Галун кругом верха кивера и двойные шевроны по его бокам были белыми, хотя уже тогда мог применяться желтый цвет, официально закрепленный для галунов кивера в 1857 г. (есть мнение, что уже 1 октября 1854 г.).
Медная бляха походила на армейский вариант – орел в короне, увенчивающий гренаду с номером полка в бомбе. Козырек обшивался медным ободком. В парадной форме полагался белый этишкет, в отличие от аналогичного образца для гренадер, поуже и снабженный не одним, а двумя кутасами, тоже меньших размеров. Чешуйчатый подбородный ремень вне строя полагалось поднимать на кожаную кокарду; на розетках штамповали гренаду в охотничьем рожке. На походном чехле кивера (из черной клеенки с отворачивающимся назатыльником) присутствовала аналогичная эмблема, нанесенная желтой краской. Желтый султан у вольтижеров на первую (от кивера) треть состоял (с 1 октября 1854 г.) из алых перьев, помпон-“сфера” был желтого цвета. В случае отсутствия султана, добавлялся второй помпон, “султанчик”, тоже желтого (в крымский период) оттенка.
Фуражная шапка в Гвардии, вопреки армейскому опыту, была оставлена прежнего типа – со шлыком. Колпак этот был полностью темно-синего цвета, с выпушками тульи и галунами околыша алыми/желтыми. Спереди свисала кисть того же отличительно цвета.
На околыше гренада или гренада в рожке. Шапка в Гвардии служила только нестроевым рабочим головным убором, в Крыму гренадеры носили меховые шапки с бляхами, а вольтижеры – кивера в чехле. Любопытно, что фуражную шапку пехотинцы Гвардии засовывали под шинель, так что кисть ее выглядывала наружу при расстегнутом воротнике.
У офицеров на головных уборах белая нить этишкетов и гренад заменялась золотой, а галуны и эмблемы на фуражной шапке были золотыми. Помпон вседневной формы вольтижерских офицеров не отличался от положенного нижним чинам образца, но в штабе “султанчик” был белым. На киверном чехле гренада в рожке была позолоченной.
Темно-синий мундир фрачного покроя включал белый (темно-синий в повседневной форме) лацкан (2х8 пуговиц), закрывавший семь черных костяных пуговиц, на которые застегивался борт. Воротник темно-синий (гренадеры) или желтый (вольтижеры).
Эполеты и контр-погончики алые для всех полков, но вольтижеров выделяли желтые полуокружия.
(Для унтер-офицеров всех полков полуокружия эполет были золотыми.) Обшлага темно-синие с желтой выпушкой, мыском (вольтижеры), или алые, прямые, с белыми трехмысковыми клапанами на трех пуговицах каждый (гренадеры). Полы (более длинные, чем на мундирах артиллерии и кавалерии) с отворотами алого/желтого цвета с белой/темно-синей гренадой. Пуговицы всем полкам полагались медные, с коронованным орлом и легендой: “Garde impriale”. У офицеров эмблемы на отворотах фалд и контрпогончики золотые, а сам мундир пошит из тонкого сукна.
Походной одеждой Гвардии в Крыму служила шинель. Внешний вид ее весьма отличался от принятого в армейской пехоте образца – и цветом (темно-синий вместо сероголубого), и покроем. Расстояние между двумя рядами мундирных пуговиц (по семь в каждом) составляло 170 мм вверху, 130 на уровне 4-й пары и 50 мм в низу. Далее, шинель эта кроилась “в талию” – такие в армии носили одни лишь унтер-офицеры.
Соответственно, сзади на талии привычные хлястики и карманные клапаны с двумя петельками уступили место двум трехмысковым карманным клапанам с пуговицами.
Воротник шинели (с вырезом) и прямые обшлага (с разрезом) всегда были цвета самой шинели, хотя формально вольтижеры должны были носить желтые воротник и выпушку на обшлагах. На уровне бедра в шинели с каждой стороны было прорезано по горизонтальному карману, прикрытых клапанами – в левый продевали ножны сабли для тех чинов, которые были вооружены ею. На рукавах шинели были видны галуны званий из алой/желтой шерсти либо золотые “с зубчиками” (унтер-офицерские). Контр-погончики идентичны нашитым на мундир. Унтер-офицеры и офицеры носили золотые контрпогончики, кому положено – с красным просветом.
Сохранились кепи и “крымская шинель” полковника (бригадного генерала с 11 августа) Л.-Р. де Мароля из 2-го полка вольтижеров, убитого 8 сентября 1855 г. при штурме Малахова кургана. Шинель, бывшая на нем в день гибели, пошита из коричневого сукна, отделана двумя рядами по пять пуговиц офицера гвардейской пехоты, а по верху прямых обшлагов идут пять галунов из плоской тесьмы. (Напротив, ничего не известно о ношении такой шинели рядовыми гвардейцами.) Кепи неуставное, тоже “крымское”, из тонкого темно-синего сукна с позолоченной тесьмой (в качестве знаков различия) и фальшивым ремешком. Точно такое же кепи использовали в Крыму офицеры гвардейской артиллерии.
Куртка в Гвардии, как и шинель, не была снабжена клапаном для поддержания поясного ремня – по причине отсутствия такового. В остальном она походила на армейский образец, с погонами и трехмысковыми клапанами на воротнике алого/желтого цвета. Обшлага во всех полках прямые. Панталоны, вопреки распространенному мнению, в Крыму были темно-синие с алой/желтой выпушкой, без карманов. Красные панталоны с темно-синим кантом были введены только в июле 1856 г., после возвращения Гвардии во Францию, хотя в 3-м гренадерском полку (образован 20 ноября 1855 г.) немало солдат уже носило красные брюки до поступления в полк. Кстати, сами гвардейцы выражали недовольство синими панталонами, считая, что они придают им излишне мрачный вид и вообще Гвардия в итоге “бледно выглядит перед линейными полками”. Поэтому цвет брюк и был изменен на красный. Однако, повторяю, это случилось уже после прибытия Гвардии из Крыма. Гетры и башмаки были общего образца.
Перевязи патронной сумы и сабли (шириной по 70 мм) кроились из белой бычьей кожи, прошитой по краям (отличие Гвардии). Кроме того, к первой перевязи крепилась капсюльная сумочка, а сама сума крепилась к ремню двумя медными пряжками, размещенными под нею. Крышка патронной сумы украшалась медными коронованным орлом (95х90 мм) и четырьмя гренадами/рожками по углам, повернутыми бомбой и отверстиями рожков к орлу. Размеры сумы: общая длина 210 мм, длина коробки 190 мм, ширина сумы 55 мм, высота 110 мм. Сзади к суме пришивался кожаный ремень (выкроенный в виде гренады на конце, длиной 120 мм), крепившийся за пуговицу, тоже кожаную, на перевязи. На суму полагался чехол из белого полотна, где орел и гренады/рожки были выкрашены черным. На другой перевязи гвардеец носил двое ножен
– сабли и штыка. Унтер-офицеры вне строя носили плечевую портупею сабли из ткани с черной лакированной кожаной лопастью. Ружейный ремень в Гвардии также был из белой кожи, прошитой по краям. Длина его равнялась 93 см у гренадер и 90 см у вольтижеров.
Ранец гвардейской пехоты отличался от армейского прототипа только ремнями – белые кожаные, но не прошитые, а также и не раздваивающиеся. Чехол мундира и шинели из полосатого тика сохранял всегда синие торцы с гренадой (высота 60 мм) или рожком алого/желтого цвета. На флягу (на белом ремне) с одним отверстием наносился по трафарету личный номер солдата и белые/желтые эмблемы (гренада или гренада в рожке).
Оружие: гренадерский или вольтижерский нарезной мушкет гвардейского образца 1854 г. (калибр 17,8 мм, длина соответственно 1,475 м и 1,421 м), сабля пеших войск образца 1831 г. и штык образца 1847 г. Саперы: жандармский нарезной мушкетон гвардейского образца 1854 г., топор, сабля и штык. Барабанщики: сабля; их капрал вне строя (и, видимо, в походе) носил саблю образца 1854 г. для гвардейских унтер-офицеров (как офицерская пехотная сабля 1821 г., но без позолоты и темляка). Такой же саблей были вооружены аджюданы (с повседневным офицерским) темляком, музыканты и тамбурмажор (только в служебной или походной форме, в остальных случаях – сабля 1822 г. с позолотой оправы). Младшие офицеры: сабля пехотных офицеров образца 1845 г.
(ножны, однако, черные кожаные, без колец, в устье ножен крючок для перевязи); темляк золотой или черный шелковый. Старшие офицеры: сабля старших пехотных офицеров 1845 г. (с такими же особыми ножнами).
Походная форма полковых саперов и музыкантов выглядела следующим образом.
Тамбурмажор: на воротнике шинели двойной золотой галун, а на рукавах нашивки старшего сержанта. Эполеты унтер-офицерские; по погону посредине алая/желтая полоска и с обеих сторон золотая полоска, которая продолжалась на поле эполет; бахрома эполет смешанная из алой шерсти и золотой нити. Черный меховой колпак (высота 250 мм спереди, 300 сзади и ширина 220 мм) общего образца, с трехцветным помпоном. Шлык и султан снимались. Капрал-барабанщик: трехцветный галун на воротнике шинели, на рукавах нашивки капрала. Эполеты тамбурмажора, но бахрома алая. Контр-погончики унтер-офицерские. Колпак особого образца (высота 220 мм спереди и 170 сзади, ширина 20 мм) с трехцветным помпоном-кокардой. Перевязь сабли как у рядовых.
Барабанщик:
на шинели трехцветный галун (воротник), а эполеты с контр-погончиками как у рядовых.
Барабанная перевязь из белой кожи, прошитой по краям, украшенная (выше держателя палочек) гренадой/рожком с гренадой. Передник общеармейский, ремни барабана из прошитой по краям белой кожи. Сам барабан украшен гвардейской символикой – орел и гренады/рожки с гренадой. Музыкант: на воротнике один или несколько золотых галунов в зависимости от статуса. (Всего было три класса для 28 музыкантов полкового оркестра, и второй, например, носил галун шириной 22 мм и под ним галун в 5 мм.) Эполеты тамбурмажора, но без бахромы. Плечевая портупея сабли из ткани с лопастью из лакированной черной кожи. На патронной суме крышка без символики, перевязь черная лакированная. Колпак капрала-барабанщика (гренадеры) или кивер (вольтижеры), с алым помпоном и белым “султанчиком”. Сапер: на рукавах шинели вышивалась эмблема (два скрещенных топора алого/желтого цвета). Капрал-сапер носил капральские нашивки.
Патронная сума и ее перевязь (выше места скрещения перевязей украшенная эмблемой в виде львиной морды) обычного образца. Ранец саперный, с чехлом для топора. Во всех полках саперы носили меховую шапку без бляхи и донца.
Гвардейский зуавский полк был образован 23 декабря 1854 г. (два батальона по 7 рот) из отличившихся армейских зуавов и егерей. Император 14 января 1855 г. принял для полка “синюю куртку с желтыми выпушками, красные штаны, красный тюрбан, синюю феску, гетры как у остальных зуавов”. Но описание униформы появилось только 6 апреля, и говорилось там уже о “белом тюрбане и красной феске”. Этот текст был опубликован 19 апреля, хотя помечен задним числом – 13-м марта. Но нет никакого смысла пересказывать его, поскольку Вансон, изучая внешний вид полка перед отплытием его из Крыма (ноябрь 1855 г.), отметил, что почти все солдаты еще носят униформу армейских зуавов.
Четыре роты Гвардейского егерского батальона (образован 1 мая 1854 г.) отправились в Крым в январе 1855 г., и в мае к ним присоединились остальные четыре.
Регламент от 19 июня 1854 г. установил детали внешнего вида части. Кивер образца гвардейских вольтижеров, обшит темно-синим сукном. Галун кругом верха из желтой шерсти. Шевроны по бокам желтые, шириной 33 мм, с черным просветом посредине.
Кожаная кокарда 58 мм. Козырек черной кожи, снизу зеленый, без обшивки.
Подбородный ремень шириной 20 мм, из черной лакированной кожи. Бляха (120х110 мм) с отштампованным коронованным орлом на бомбе (с охотничьим рожком) и молниях. В парадной форме султан “плакучая ива”, черно-зеленый, с алым верхом. В повседневной форме зеленый сферический помпон, 55 мм. Чехол черный клеенчатый с белой крашеной эмблемой (охотничий рожок в бомбе гренады). Кепи образца 1852 г. темносинее, по всем швам желтые шнурки. Желтый галун (15 мм) на околыше в 3 мм выше выпушки по тому месту, где околыше соединялся с тульей. Гренада (35 мм) вышита желтой шерстью спереди на околыше.
Темно-синий мундир, на 9 больших пуговицах (из белого металла, с выпуклым коронованным орлом, окруженным легендой Garde impriale). Короткие полы длиной всего 150 мм, на фалде со стороны левой руки – прорезь (окантованная желтым) под клапаном для удержания поясного ремня (тоже с желтой выпушкой). Воротник (высота 55 мм) с желтой выпушкой. И на воротнике, и на фальшивых отворотах пол желтые гренады.
По борту, низу мундира, обшлагам (мыском, общая высота 110 мм; две пуговицы на рукаве), вертикальным карманным клапанам, отворотам и, видимо, рукавным швам – желтая выпушка. Контр-погончики из зеленого галуна на синей подкладке, эполеты зеленые с желтыми полуокружиями. Куртка темно-синяя, на 9 малых пуговицах. Обшлага мыском, желтые гренады на воротнике, на плечах нет пуговиц или перехватов для эполет.
Панталоны из темно-серо-железного сукна, “широкие, составляющие с каждого боку семь складок впереди и шесть – сзади. По длине они таковы, чтобы, после пригонки кругом подколенной впадины лентой с костяной пуговицей, они опускались почти до колен”. Два боковых кармана (длина 180 мм) обшивались желтым шнурком. Второй шнурок пришивался параллельно в 20 мм с каждой стороны прорези и заканчивался вверху и внизу венгерским узлом. Объем панталон (или скорее, нешироких шаровар) был одинаков с принятыми позднее, в 1860 году, для пехоты, но уступал просторным “восточным” панталонам зуавов и стрелков. Панталоны для нарядов – из тика, покроя форменных, но длиннее на 80 мм. Краги из рыжеватой бараньей кожи, зуавского образца, на шнуровке (с шестью дырочками для шнурка). С крагами носились холщевые или кожаные гетры общего образца. Пелерина (“воротник с капюшоном”) из голубовато-серожелезного сукна, на 4 малых пуговицах, длиной 80 см спереди, 100 см сзади.
Поясной ремень (ширина 6 см) из черненой кожи. На нем имелись медная бляха (с выпуклой гренадой) и два медных перехвата для ремней ранца. Патронная сума пехотного образца 1854 г. (длина 210 мм, высота 130 мм), на крышке медный коронованный орел (высота 95 мм). Ранец егерского образца, черного опойка. Чехол для куртки и торцы из черной клеенки (длина 370 мм, 110 мм). Оружие: карабин со стержнем образца 1846 и 1853 гг. (ремень из черной кожи, длиной 90 см), штык-тесак образца 1842 г. в лопасти на поясном ремне.
Знаки различия как у армейских егерей: желтые шерстяные или (унтер-офицеры) серебряные с желтыми каемками. Стрелковые инструкторы: галуны сержанта, но обратного металла (золотые). Шевроны за выслугу лет алые/серебряные.
Унтер-офицеры:
полуокружия эполет оплетены серебряной нитью, контр-погончики серебряные галунные с красным просветом. Горнисты: галун с трехцветными ромбиками по воротнику (гренада помещена поверх галуна) и обшлагам мундира (но не куртки). Унтер-офицер-горнист:
галуны звания, а также два серебряных галуна (первый шириной 22 мм; второй 10 мм, на расстоянии 3 мм от первого) на воротнике и обшлагах мундира. Горнисты-музыканты:
серебряный галун на воротнике и обшлагах мундира. Горн с темно-зеленой завесой.
Саперы: на каждом рукаве эмблема (два скрещенных топора под гренадой), вышитая желтой шерстью (с мундиром) или вырезанная из желтого сукна (на куртке).
Аджюданы: офицерский полукафтан. Эполет (на правом плече) и контр-эполет золотые, с красной полоской посредине. Аксельбанты с серебряными участками длиной 60 мм, чередующимися с участками красными, длиной 25 мм. Панталоны офицерские, но только с желтыми выпушками. Офицерский “кабан” с черными венгерскими узлами.
Кивер офицерский, галуны серебряные с красными шелковыми просветами. Султан рядовых, помпон белый шерстяной. Кепи тоже офицерское, без подбородного ремня, галун на околыше серебряный с красным просветом, шнурки на 2/3 серебряные и на 1/3 красные; шнурок над козырьком. Черная портупея при всех формах. Сабля пехотных аджюданов.
Офицерам в июне положено носить мундир рядовых и панталоны офицеров армейских егерей. 25 ноября 1855 г. для них установлены полукафтаны. Однако, учитывая, что тогда батальон еще находился в пути, сомнительно, чтобы хоть кто-то из офицеров успел сшить себе новую форму до прибытия в Париж 29 декабря.
Униформа батальона егерей Гвардии в Крыму: “Егеря все носят бородку. (Они) в куртке без эполет. Унтер-офицеры в полукафтане [т. е. мундире] без эполет. Краги и гетры холщовые. Панталоны холщевые серые для унтер-офицеров и рядовых, одетые поверх суконных. Малая фляга нового образца [прямоугольная, с двумя отверстиями].
Бляха поясного ремня с гренадой. Ранцы черные опойковые. Орел на патронной суме.
Кивера зачехленные, козырек с пехотного кивера, без отделки. На киверах нет ни эмблем, ни номеров [интересное замечание!]. Нет подбородных ремней. Кепи с желтым галуном выше выпушки околыша” (Вансон, 6 ноября 1855 г.).
Пешие жандармы носили шапки гренадер с медной бляхой и алым султаном, темносиний мундир фрачного покроя с алым (темно-синим в повседневной форме) лацканом, оловянными пуговицами и белыми аксельбантом и эполетами в виде трилистника и светло-синие (скорее серо-голубые внешне) панталоны. Воротник темно-синий, с каждой стороны на нем белая гренада. Подбой мундира алый, как и отвороты фалд (с белыми гренадами) и выпушка обшлагов и обшлажных клапанов. Шинели темно-синие, гвардейские. Снаряжение гвардейского гренадерского образца, но ремни (включая мушкетный ремень и ремни ранца) желтые замшевые, с белой галунной обкладкой по краям перевязей. Только жандармам в Гвардии официально полагались кепи (образца 1853 г.) с прямоугольным козырьком, темно-синим околышем и светло-синей тульей. На кепи шнурки (по швам тульи и кругом донца и околыша), гренада и галун были из белой нити, шириной 13 мм. Галун этот пришивался по верхнему краю околыша ниже горизонтального шнурка. Бригадирам и унтер-офицерам кепи полагалось с серебряными галуном и гренадой, центр бомбы был из синей шерсти, шнурки же – из смеси серебра (2/3) с синей шерстью (1/3). Аджюданы носили кепи су-лейтенанта, с золотым горизонтальным галуном. Офицерам были даны кепи с серебряными галуном, гренадой и фальшивым ремешком. Вместо шнурков нашивалась плоская тесьма, а на донце имелся венгерский узел.
Гвардейская артиллерия носила черный колпак из тюленьего меха. Подбородный ремень с латунной чешуей. В походе султан снимали, оставляя только алый помпон.
Доломан был из темно-синего сукна, с алыми шнурами и тесьмой и с тремя (пеший полк) или пятью (конный полк) рядами латунных пуговиц. Воротник (синий) и обшлага (мыском, алого сукна) были обшиты алой шерстяной тесьмой. Однако, в пешем полку первоначально (текст от 5 апреля 1855 г.) носили доломан конной артиллерии, где первые восемь шнуров на груди были положены на лоскут сукна, образующий нечто вроде лацканов. Панталоны в Гвардии были артиллерийские, темно-синие с алыми двойными лампасами и выпушкой, с гетрами/сапогами. Канониры пешей артиллерии носили под доломаном белый поясной ремень, слева несущий лопасть сабли. Через левое плечо они надевали белую перевязь черной патронной сумы. Ранец был пехотного образца. В конной артиллерии надетый под доломан ремень удерживал саблю и ташку, а перевязь – небольшую лядунку.
Гвардейские инженеры отличались от армейских головным убором – черной меховой шапкой без бляхи и красным этишкетом. В остальном их форма соответствовала армейским инженерным частям, с алыми/золотыми гренадами на воротнике мундира и с патронной сумой гвардейских гренадер. Минимальный рост для инженеров Гвардии составил 1,68 м, наравне с полком Гидов, тогда как у гренадер (“народ все молодой и красивый”) и артиллеристов он равнялся 1,76 м.
Линейная и легкая пехота В Крыму действовали следующие части пехоты (полужирным шрифтом выделена новая нумерация бывших легких полков, ставших в октябре 1854 г.
линейными):
1 дивизия (7, 20 и 27 линейные полки). Убыла в Крым в апреле 1854 г.
2 дивизия (50 линейный, 7 легкий и 6 линейный полки). Убыла в Крым в апреле 1854 г.
3 дивизия (20 и 22 легкие полки). Убыла в Крым в апреле 1854 г.
4 дивизия (19, 26, 39 и 74 линейные полки). Убыла в Крым в апреле 1854 г.
5 дивизия (21 и 42 линейные, 5 легкий и 46 линейный полки). Убыла в Крым в июне 1854 г.
6 дивизия (28 и 98 полки). Убыла в Крым в октябре 1854 г.
Дивизия де Саля (18, 79, 14 и 43 полки). Убыла в Крым в декабре 1854 г.
Дивизия Дюлака (57, 85, 10 и 61 полки). Убыла в Крым в декабре 1854 г.
Дивизия Брюне (86, 100, 49 и 91 полки). Убыла в Крым в январе 1855 г.
Дивизия Эрбийона (47, 52, 62 и 73 полки). Убыла в Крым в апреле 1855 г.
Дивизия д’Ореля де Паладина (9, 32, 15 и 96 полки). Убыла в Крым в апреле 1855 г.
Бригада Соля (30, 35 и 94 полки). Убыла в Крым в мае 1855 г.
После падения Севастополя 20, 39, 50 и 97 (бывший 22 легкий) полки были отозваны во Францию и заменены 64, 11 и 31 (а также 35-м – в бригаде Соля) полками. Была образована еще одна, 12-я, дивизия, в составе 69, 81, 33 и 44 полков. Кроме того, гарнизон Константинополя составляла бригада О’Фарелла (1 и 84 полки), а 3, 48, 51 и 2 легкий (77) полки участвовали в Балтийской экспедиции (август 1854 г.).
Линейный полк состоял из трех батальонов (два полевых, один запасной), а по указу от 24 марта 1855 г. из четырех (включая запасной). В батальоне было по 8 рот – 6 фузилерных, гренадерская и вольтижерская (в запасном, т. е. 3-м или 4-м, батальоне элитные роты отсутствовали).
Полк легкой пехоты делился на 3 батальона по 7 рот:
карабинерная, вольтижерская и 5 егерских. В период войны (15 ноября 1854 г., уже после формальной отмены легкой пехоты) была восстановлена 8-я (егерская) рота (3-й батальон). В тактическом отношении различия между линейной и легкой пехотой не существовало, хотя вольтижерское ружье последней на 5 см было короче пехотного мушкета.
Вопреки позднейшим реконструкциям пехоты в полукафтанах (почему-то именуемым в отечественной униформологии “туниками”!), в Крыму пехотинец (за редчайшим исключением) появлялся лишь в шинели и в кепи – пожалуй, самая простая и удобная экипировка среди солдат всех европейских армий тех лет. Кепи с квадратным козырьком в это время официально носило довольно громоздкое название “фуражная шапка с козырьком” и внешне смахивало на уменьшенный кивер. Тулья и донце кепи в пехоте были из красного сукна, а выпушки (из шнурка толщиной 2 мм) по ним, как и околыш, из темно-синего сукна (регламент 30 марта 1852 г.). На околыш пришивался красный (желтый в легкой пехоте) номер полка (высотой 35 мм). Подбородный ремень отсутствовал. Козырек был четырехугольный (ширина посредине 50 мм), но с закругленными углами: “дуга внешнего изгиба сплюснута наружу на протяжении примерно семи сантиметров”. Материалом для козырька служила черная лакированная кожа, срез чернился чернилами. Размеры для шапки положили следующие. Высота 140 мм спереди и 160 мм сзади, диаметр донца – минимум 120 мм. Однако, поскольку донце вбивалось внутрь на 2 см, реальная высота кепи сокращалась до 120 и 140 мм соответственно. (Но в тексте 1852 г., при подтверждении первых размеров, высота сзади указана как 160 мм!) Ширина околыша – 50 мм (в 1850-е гг., вероятно, эти размеры немного уменьшились – регламент 1858 г. зафиксировал ширину 45 мм). Вопреки уставу, мог носиться подбородный ремень.
Интересно, что в русских мемуарах упоминается, как во время перемирия и общения солдат обеих сторон, “наши ухарски заломленные на бекрень круглые шапки (фуражки – Авт.) появлялись на головах французов, в замен кепи, найденных весьма изящными нашими солдатами”. Энгельс, кстати, писал о кепи: “головной убор, наиболее подходящий для солдата из всех, когда-либо придуманных”.
Инструкции Восточному армейскому корпусу от 9 марта 1854 г. умолчали относительно обмундирования войск. Поэтому первые полки, отправленные на войну, убыли в киверах. На смотре в Галлиполи 2 мая 1854 г. два (из трех) пехотных полков 1-й дивизии, 7-й и 27-й линейные, носят кивера. (Третий полк, 20-й линейный, показан на рисунке Вансона в кепи, и в нем же он проделал всю кампанию.) Однако, нельзя сказать, что подобный пример оказался заразительным, и 20 октября уточнение к мартовским инструкциям исключило, наконец, “ночной горшок” из числа предметов походного обмундирования.
Поэтому здесь необходимо привести описание и кивера, хотя и сомнительно, чтобы его вообще носили на территории Крыма. Кивер в виде перевернутого усеченного конуса обшивался темно-синим (“синим королевским”) сукном, галун кругом верха и выпушки по бокам были красные шерстяные (желтые в легкой пехоте). Размеры кивера: высота 20 см сзади и 17 см спереди. Бляха кивера всегда использовалась медная (“каким бы ни был металл пуговиц”), в виде орла (высота 115 мм), смотрящим влево; под когтями орла прорезали номер полка. Помпон – овальный, с латунным номером роты у фузилеров (у егерей легких полков номер роты из белого металла). Помпон пригонялся к верхнему краю кивера, частично затеняя трехцветную кокарду (диаметр 58 мм).
Расцветка помпона:
Центральные роты 1-го батальона: темно-синий помпон.
Центральные роты 2-го батальона и штаб: красный помпон.
Центральные роты 3-го батальона: желтый помпон.
Элитные роты линейных и легких полков: двойной помпон, из “сферы” и “султанчика”. Диаметр шаров, соответственно, 45 мм (нижний) и 60 мм (верхний). Цвет обоих помпонов красный (гренадеры/карабинеры) или желтый (вольтижеры).
Чехол кивера был из черной клеенки. С обеих сторон у него имелись отвороты, поднимающиеся до донца и завязываемые на узел спереди. Спереди наносился полковой номер желтой (белой в легких полках) краской. Однако, на рисунке Вансона, упомянутом выше, такие чехлы не носятся, что, видимо, говорит в пользу той версии, что кивера были вынуты из ранцев только на время смотра.
Только 30 января 1855 г. орел на киверной бляхе получил корону, а черный кожаный подбородный ремень тогда был заменен парой медных ремней с 16 чешуйками (на розетках всегда стояла пятиконечная звезда).
Тамбурмажор в повседневной форме носил черный меховой колпак без шлыка и султана, с двойным помпоном малого штаба – “сфера” синяя, “султанчик” бело-алый. Вне строя этому чину полагалась шляпа. Кстати, стоит заметить, что его трость в походе иногда служила оружием. Как вспоминал Шарль Дюбан из 11-го легкого полка, на Малаховом кургане тамбурмажор “укладывал одного русского солдата каждым ударом своей большой трости с серебряным навершием”.
Шинель традиционно оставалась походной одеждой французского пехотинца. В начале Крымской кампании использовался образец 1844 г. с модификациями 1845 и 1852 гг. Шинель шили из серо-голубого (“голубовато-серо-железного”) сукна, с воротником того же цвета и двумя рядами по шесть пуговиц. Расстояние между рядами, в соответствии с требованиями узаконенной военной моды, составляло 240 мм (первая пара вверху), 205 (3-я пара пуговиц) и 140 мм (пара внизу). С введением нового поясного ремня в 1845 г., на левом (с точки зрения носителя) боку шинели появился клапан с пуговицей, предназначенный для удержания ремня на месте. Изнутри этот клапан подшивался кожей.
Объем шинели регулировался сзади хлястиком на пуговицах. Полы шинели (с небольшим разрезом сзади) следовало заворачивать и подстегивать. Но в походе зачастую поступали совершенно наоборот, а рукава, напротив, закатывали.
Воротник был высотой 60 мм, с большим вырезом спереди, шириной 70 мм. В пехоте на воротник нашивали цветные трехмысковые клапаны – красные в линейных полках и желтые в легкой пехоте. Ширина клапана составляла 50 мм на мысках и 30 мм на выемке.
Обшлага прямые, на одной малой пуговице (и еще одна пуговица присаживалась выше обшлага на рукав).
Пуговицы латунные полувыпуклые, с отштампованным выпуклым полковым номером, окруженным круглым бортиком, заканчивающимся на каждом конце цветком.
Диаметр больших пуговиц составлял 23 мм, а малых – 17 мм. В легких полках пуговицы оловянные, украшенные рожком (внутри его номер полка), окруженным бортиком с виньетками, по краю с ободком.
На плечах шинели контр-погончики для эполет (переставляемых с полукафтана). Эти погончики были зеленого (фузилеры – центральные роты), алого (гренадеры/карабинеры в легких полках) или желтого (вольтижеры) цвета. Впрочем, официально, фузилерам (егерям в легкой пехоте) полагались погоны из шинельного сукна, с трехмысковыми концами (у проймы), и 100-й линейный полк еще в 1861 г. действительно использовал такие погоны. С другой стороны, 20-й и 27-й линейные полки, показанные на рисунке Вансона (2 мая 1854 г.) в шинелях, носят именно бахромчатые эполеты.
Текст 1845 г. упразднил унтер-офицерскую шинель “в талию” – более пригнанного по фигуре покроя, без хлястиков на спине. Расположение пуговиц подчеркивало “осиную талию”: расстояние между 1-й, 3-й и 6-й парами пуговиц составляло 280, 240 и 100 мм соответственно. Однако, невзирая на приказ, такую шинель унтера все еще носили в Крымскую кампанию – в 20-м линейном полку и по меньшей мере в одном легком полку.
В Крыму зимнее обмундирование было выдано на исходе 1854 г., включая знаменитые “Крымские шинели”, Crimennes. “В армии введены превосходные суконные пальто с капюшонами; их носят в рукава с форменными пуговицами; офицерам даны такие же пальто, называемые здесь «Crime», и велено носить на них эполеты”, комментируют с русской стороны траншей.
Изготовление этих шинелей началось в полковых швальнях по решению от 23 августа. Капитан Кюлле из 20-го легкого полка подтверждает, что “каждый офицер или солдат получил шинель с капюшоном, почти все – полушубок и большие гетры [валенки?] из овчины”, а также красную феску без кисти и башмаки-сабо.
Относительно последних стоит привести заметку русского офицера. Он обнаружил 28 сентября 1854 г. “свежие следы неприятеля: … растрепанные русские ранцы, при которых не оказалось ни одних запасных сапог, вместо же их валялись сабо, брошенные, вероятно, вследствие неприменимости этой обуви к крымской осенней грязи, для которой сапоги русского солдата были гораздо пригоднее”. Алабин, опрашивая пленного француза 2 марта 1855 г., на вопрос “Что же вы не носите их [сабо]?” получил следующий ответ: “Мои поизносились, так мы с товарищами пожертвовали свои сабо и сделали из них порядочный костер”.
Появление “крымских шинелей” (в русских источниках именуемых “пальто” или “плащами”) не было санкционировано ни одним регламентом, но фактически признано военным министром, распорядившимся о закупке 60 тысяч экземпляров. От уставного образца они отличались наличием пелерины или капюшона (“воротника”), либо обоих сразу. Спереди в полах шинели располагались два незаметных горизонтальных кармана с клапанами или же без оных. Обшлага на таких шинелях присутствовали, но, видимо, могли и не фиксироваться четко.
По словам Вансона, выданные в 1854 г. crimennes были скроены из темно-синего (мундирного цвета) сукна для линейных полков и из шинельного сукна для легких полков.
Помимо этого, встречались (49-й линейный полк, например) варианты из той же материи, из которой была сшита шинель английской пехоты – темно-серой, с плоскими железными пуговицами. В 1855 г. пехота получила уже три типа crimennes: из шинельного сукна с желтыми выпуклыми пуговицами без символики; темно-синего сукна с такими же пуговицами; серо-светло-каштанового сукна, без пелерины, но с капюшоном и одним рядом черных деревянных или костяных пуговиц. Упоминаются также (1855 г.) шинели серого, небесно-голубого или зеленого цвета. Crimennes из шинельного сукна солдат элитных рот выделялись гренадками или охотничьими рожками из красного сукна в нижней части пелерины или капюшона (по длине вертикального края). Гренада нашивалась на шинель прямо (в 21-м и 31-м полках – под углом в 45), а вольтижерский рожок – вертикально (горизонтально в 21-м полку).
Вместе с “крымскими шинелями” часто выдавали белые овчинные полушубки мехом внутрь. Похоже, нередко эти полушубки представляли собой просто баранью шкуру, перехваченную ремнями. Шарль Дюбан из 11-го легкого полка отмечал, что “овчина носилась благодаря двум ремешкам, один сзади на шее, другой к поясному ремню”. Из лагеря под Севастополем 3 декабря писали: “Мы уже получили одежду из овчины, которую носим шерстью внутрь. Она соответствует двоякой цели, потому что греет нас и сохраняет наши туники [полукафтаны], сукно которых уже истерто. Что касается панталон, то значительное число их заштопано, а во многих местах они разодраны за недостатком лоскутков. Отыскивают коровьи шкуры, которые сушатся и из которых делают род штиблет. … Протертые башмаки и подошвы заменяются не редко лаптями, а все остальное, в дни смотра, так грязно, что блестит одно только оружие”.
Введенная благодаря крымскому опыту в январе 1855 г.
новая шинель отличалась следующими деталями от предшествующего образца:
Два ряда по пять пуговиц; расстояние между ними – от 100 мм (внизу) до 160 мм (вверху).
Воротник стояче-отложной (“саксонский”), шириной 17 см, закругленный на углах. В холода воротник могли поднимать, закрывая уши и затылок.
Покрой шинели сделан достаточно просторным для того, чтобы ее можно было надевать на полукафтан и куртку.
Контингент в Крыму такую шинель, несомненно, получил: в ноябре 1855 г. ею были снабжены солдат 20-го линейного полка, в том числе тамбурмажор.
Рабочей одеждой солдатам служила куртка, отличавшаяся от прежнего мундира отсутствием фалд. В Алжире куртка служила летней выходной формой, а в большинстве кампаний veste (как в сочетании с шинелью, так и без нее – а иногда и одна шинель, без куртки) являлась признанным de-facto походным облачением солдата. Куртка в пехоте была из того же сукна, из которого шили полукафтаны. Она застегивалась на девять малых форменных пуговиц. Воротник стоячий (в 1855 г. его высота сокращена до 45 мм), с вырезом, в элитных ротах украшенный гренадкой или рожком из красного сукна. (В легких полках воротник желтый, с синими эмблемами для элитных рот.) Иногда по борту могла идти красная выпушка. Обшлаг прямой, над ним малая форменная пуговица. У левого бока клапан для поддержания ремня. Галуны по званиям располагались на рукаве куртки наискось, как на шинели.
Не совсем ясна ситуация с наплечными знаками куртки. Регламент 1845 г. утвердил в этом качестве погоны. В июле 1848 г. Республика заменила их контр-погончиками, или контр-эполетами, намереваясь оставить солдатам одну только куртку, упразднив полукафтан. Контр-погончики, в свою очередь, исчезли 13 ноября 1848 г., и решение об их отмене было повторено (за исключением Алжира) 5 сентября 1853 года. Однако, приказ соблюдался только в метрополии, и вне Франции пехотинцы по прежнему обычаю в походе пристегивали на плечи куртки свои эполеты. Для чего у воротника на каждом плече пришивалось по пуговичке.
Для полноты картины стоит описать и полукафтан пехоты. Во всяком случае, его (с эполетами) носит 7-й линейный полк на неоднократно упоминаемом выше рисунке Вансона смотра в Галлиполи 2 мая. Кроме того, похоже, что унтер-офицеры тоже могли носить полукафтан в походе, когда рядовые были в куртках и шинелях.
Однобортный (1х9 пуговиц) полукафтан сшит был из темно-синего (“синего королевского”) сукна. Длина пол 43 или 44 см, у офицеров 46 или 47 см. Воротник (с вырезом) желтый в легкой пехоте и темно-синий с красной выпушкой в линейной.
Выпушка по борту, остроконечным обшлагам (в легкой пехоте) и клапанам обшлагов (1х3 малых пуговицы; в линейной пехоте), клапану для удержания поясного ремня и карманным клапанам сзади (“а ля Субиз”, каждый с 2 пуговицами) была красная (желтая в легких полках). Обшлага в линейных полках красные, прямые. На воротнике в элитных ротах красная гренада (в гренадерской роте) или желтый охотничий рожок (вольтижеры);
в карабинерных и вольтижерских ротах легких полков эти эмблемы были синими.
Пуговицы как на шинели.
Контр-погончики на полукафтане были темно-синие с красной/желтой выпушкой.
Эполеты шерстяные, бахромчатые, алые (гренадеры/карабинеры), желтые (вольтижеры) или зеленые с алыми полуокружиями (егеря/фузилеры). Подкладка эполет из мундирного сукна. Капралы барабанщиков и горнистов использовали гренадерские эполеты, хотя их подчиненные носили эполеты своих рот. Музыканты: желто-золотистые эполеты без бахромы, погон и поле которых были посредине перечерчены красной полоской шириной 25 мм. Именно эти цветные эполеты все чины переносили с полукафтана на шинель в случае похода.
Нарукавные галуны по званиям (полукафтан и куртка) – шириной 22 мм, диагонально нашитые (мыском, острием вверх, в легкой пехоте), из красной/желтой шерсти; унтерофицеры – нашивки золотые с красной каймой (серебряные с желтой каймой в легкой пехоте). Система применялась следующая. Капрал: две нашивки на предплечье. Сержант и старший сержант: 1 или 2 нашивки приборного металла соответственно.
Каптенармус:
два металлических галуна на предплечье и один на плече. Шевроны за выслугу лет (верхняя часть левого рукава полукафтана, но не шинели) в виде перевернутой V, алые шерстяные или, для унтер-офицеров, золотые (серебряные в легких полках) без каймы.
Горнисты и барабанщики: трехцветный галун на воротнике и обшлагах полукафтана;
шнур трубы тоже трехцветный. Что же до музыкантов, в походной форме (шинель) их выделяли только эполеты.
С июля 1829 г. французского пехотинца всегда выделяли длинные, довольно просторные панталоны из красного сукна (полутонкого для унтер-офицеров), на подкладке из хлопкового кретона. “Я слышал, - добавляет Берг, - что красное сукно во французской армии введено вследствие дешевизны этого цвета. «Что до сюртуков и шинелей, заметил мне один французский полковник: мы понимаем достоинство серого цвета, но его у нас, в армии, никто не наденет с тех пор, как надел серый сюртук один человек»”. Вот и “пестрели как цветы” в Крыму французы в своих красных штанах… С 31 декабря 1841 г. брюки надлежало застегивать не на лацбант, а на ширинку с 4 петельками и пуговицами. Сзади на брюках имелись хлястики, для регулировки объема талии. Справа полагался карман, который открывался не только вертикально, но и горизонтально, по длине поясного шва. Пуговица (всю брючные пуговицы были черненые костяные) удерживала этот карман под прямым углом. Регламент от 30 января 1855 г.
отменил хлястики, “пряжка которых, под давлением портупеи и ранца, отягощала солдата”.
У каждого солдата в наличии было по паре белых холщовых и черных кожаных гетр.
Летние холщовые гетры (со штрипками тоже из холста) застегивались на один ряд из 9 костяных пуговиц. В 1855 г. был принят новый образец – с 11 петельками и 17 костяными пуговицами. Наличие шести лишних пуговиц позволяло либо лучше пригонять гетры на ногу, либо, по желанию, засовывать штанины в гетры в походной форме. (Обычно панталоны в походе носились все же поверх гетр.) Холщовые гетры имелись в трех вариантах: 30, 29 и 28 см высотой.
Гетры из коровьей кожи чернили уже сами солдаты. Они застегивались по внутренней стороне ноги кожаным шнурком, пропускаемым через 10 медных дырочек, пробитых по краю, и в 9 дырочек по краю перед прорезом. Такие гетры тоже отпускались в трех размерах: высотой 23, 22,5 и 22 см. Черные гетры предназначались для рабочей формы и плохой погоды, но именно этот вариант был наиболее популярен в Крыму.
Кроме того, под Севастополем использовались белые овчинные краги шерстью внутрь (русские валенки?), а также серые или коричневые холщевые гетры длиной выше колен, застегивающиеся сбоку на пряжку.
На пояс под ремень нередко одевали неуставной широкий фланелевый кушак синего или красного цвета. На шее солдат должен был носить черный жесткий галстук. Но его надевали только в парадной форме, и даже инструкции войскам в Крыму официально признают ношение в походе темно-небесно-голубого шейного платка. (Унтера неофициально могли себе позволить черный шелковый платок.) С 1843 г. пешие войска носили (за исключением учений и маневров) белые хлопковые перчатки.
Черная кожаная патронная сума с 4 марта 1845 г. носилась на поясном ремне сзади, немного вправо (для чего к ней сзади крепился длинный кожаный ремешок). Объемы сумы (с крышкой): 210 мм в длину (собственно коробка занимала 190 мм), 55 мм в ширину и 100 мм в высоту (90 мм без крышки). Под крышкой укрывался кармашек для капсюлей (длина 175 мм). Сам поясной ремень был из черненой (с 1848 г.) бычьей кожи, шириной 55 мм, длиной в зависимости от роста солдата. С одной стороны ремня крепилась гладкая медная бляха (65х60 мм) и дополнительный кусок ремня (5 мм – или 5 см?), а с другой – медная застежка в форме литеры D. На задней стороне ремня наносились номер полка (скажем, “75edeL”), дата поступления (положим, “45” для 1845 г.) и личный номер солдата (например, “918” или “192”). Пара медных подвижных колец на ремне (высота 78 мм) удерживала ремни ранца. Слева крепилась лопасть для штыка – тоже из черненой кожи. Штыковые ножны имели ремешок из черненой кожи. Для чинов, вооруженных саблей 1831 г., полагалась особая лопасть на ремне – из черненой кожи, длиной 26 см, шириной 5 см вверху и 8 см – внизу.
Бляху можно было снять с портупеи, не отпарывая при этом пришитого сзади куска кожи; патронная сума и штыковая лопасть, следовательно, были снабжены ремешками достаточной длины, чтобы их тоже можно было снять при необходимости. Намертво крепилась на ремень только лопасть для ношения сабли, которая, тем самым, носилась при всех формах. Кстати, вне строя солдат носил или штык (фузилер/егерь), или саблю (рядовой элитной роты).
Прямоугольный ранец крыли рыжеватым опойком, шерстью наружу, на подкладке из небеленого льняного полотна. Размеры: длина 370 мм, высота 310 мм. Два плечевых Yобразных ремня ранца крепились к задней части поясного ремня солдата, а спереди цеплялись за подвижные кольца. С апреля 1848 г. эти ремни были заменены новыми, состоявшими из трех частей. Первая, шириной 52 мм, заканчивалась тремя фестонами.
Вторая проходила в железную пряжку с простым шпеньком, расположенную под ранцем.
Третья состояла из ремешка, присоединенного к отверстию в верхней части медного подвижного кольца (на поясном ремне) крючком с пуговицей. “Таким образом, грудь остается совершенно свободной, и нынешний солдат уже нисколько не похож на того несчастного солдата, который был затянут ремнями и заключен, по старой системе, в своего рода кожаную кирасу”. На верху ранца крепился чехол полукафтана или шинели, из сине-белого тика, т. н. “с тысячью полосок”, с деревянными кругами на концах, обшитыми шинельным сукном.
28 апреля 1854 г. введен новый ранец, официальное описание которого опубликовано 27 марта 1856 г. – тем не менее, войска в Крыму его получали. Размеры: длина 36 см, ширина 11,5 см, высота 31 см. Патроны (4 пачки) теперь размещались на дощечке в верхней части ранца, закрытые крышкой (крытой опойком) с пряжкой и ремешком.
Ранцевые ремни теперь пришивались на горизонтальной верхней стороне ранца, а не пристегивались пряжками. Шинель теперь скатывалась в валик (и укладывалась в виде подковы с трех сторон), а не складывалась цилиндрически, для чего требовались два боковых ремешка. Если солдату была выдана походная палатка, она скатывалась одновременно с серым походным одеялом или шинелью так, чтобы снаружи было видно только полотнище палатки. Тиковый футляр остался, но деревянные торцы отменили;
теперь в него, как правило, прятали один только полукафтан.
Походную утварь составляли личный котелок образца 1852 г. (при нем крышка с цепочкой) и, на все отделение, блюдо (или большой котел), большая фляга и кастрюля.
Полотнище палатки поддерживалось разного вида колышками, в феврале 1855 г. введена большая опора (1,20 м). В Крыму эту опору (висевшую сбоку ранца, со стороны левой руки) запечатлел Вансон на рисунке двух гренадеров 31-го полка.
“В Альминском сражении, - записывал маршал Кастеллан, - генералы, воевавшие в Алжире, приказали солдатам, согласно обычаю, практикующемуся против арабов, сложить котомки на землю. По взятии высот пришлось возвращаться назад целых полторы мили за котомками…”. П. В. Алабин 28 мая (9 июня) 1855 г. отмечал: “у всякого почти французского солдата бывает с собою фляжка рома или коньяка. Они идут на штурм и прикладываются к своей подруге и подчуют друг друга дорогой…”. У пленных и убитых при штурме 27 августа (8 сентября) 1855 г. французов “находили кофейники и мешки с провизией: колбасами, галетами, кофеем, ромом и табаком”. Солдатский мешок дозволялось носить в Крымской кампании. Его делали из бежевого или коричневого холста, а застегивали не на пуговицы, а с помощью пряжек и ремешков. Фляга тоже не вошла ни в один регламент, но выдавалась войскам перед каждым походом. В период Восточной войны применялись прямоугольные фляги, размерами 16х14 см приблизительно, объемом 1 литр, с одним отверстием посредине. В качестве материала использовалось белое железо, обшитое шинельным сукном – участнику обороны Севастополя запомнились “красиво оплетенные французские фляжки”. Через трафарет или мелом на ткань наносился номер полка и (реже) матрикульный номер. Флягу носили на черном плечевом ремне.
Вооружение: гладкоствольные ударные мушкеты образцов 1842 г. (калибр 18 мм;
длина 1,475 м, у вольтижеров 1,421 м), 1853 (длина как на образце 1842 г., но калибр 17,8 мм) и 1822 Т (калибр 18 мм). Вольтижерский вариант мушкета для легких полков:
пластина на ложе с литерами Lr и за ними полковой номер (надпись стерта 19 июня 1855 г.). Холодное оружие: штык образца 1847 г.; капралы, сержанты, старшие сержанты, каптенармусы, а также солдаты элитных рот были вооружены вдобавок саблей пеших войск образца 1831 г. (прибор латунный, клинок прямой – наподобие римского мечагладия, ножны кожаные с медной гарнитурой). Барабанщики, капрал-барабанщик и музыканты – сабля. Горнисты и саперы (с их капралами) – сабля и жандармский мушкетон (калибр 17,6 мм, с латунным прибором) со штыком.
Участник обороны Севастополя с некоторой завистью отмечал: “Щеголеватость одежды … французских офицеров поразила всех; все они были раздушены, в глянцевых ботинках, в лайковых перчатках, в прекрасных мундирах, из-за которых виднелось белье самое тонкое и белое, как снег”. Другой русский офицер описывает французского коллегу: “В его одежде замечалась смесь блеску с грязью: новый, сияющий мундир, превосходные башмаки – и довольно потертые брюки. Отличная фуражка, с ярким позументом – и ни на что не похожий галстук, повязанный жгутом”. Даже англичане признавали, что французские “офицеры одеты всегда чисто и опрятно. Наши офицеры…, напротив, все они оборваны и грязны”.
Офицер 11-го легкого полка описывает крымскую офицерскую моду на африканский манер: “Мы носили черный жилет и расстегнутый полукафтан, как в Алжире, панталоны в гетры или в краги, и поверх всего зуавский кушак”. Эти неуставные полукафтаны походили на мундиры зуавских офицеров – полностью из темно-синего сукна (черный цвет войдет в моду позднее), с форменными пуговицами и знаками различия в виде серебряных или золотых (соответственно легкая и линейная пехота) нарукавных узлов. Узлы состояли из полос золотого галуна шириной 3 мм и в количестве от одной до пяти, согласно чину. У подполковника 2-я и 4-я полосы были серебряные, у майоров – нижняя серебряная, для отличия от шефов батальона. Капитан – старший аджюдан: вторая полоса серебряная. В легкой пехоте, очевидно, обратная система, с заменой золота серебром и наоборот. Аджюданы носили одиночный черный шелковый узел.
Такой полукафтан не упоминается ни в одном регламенте, но его использовали в походе большинство офицеров французской пехоты со времен покорения Алжира. Иногда на нем присутствовали красные (желтые в легкой пехоте) воротник, обшлага и выпушка борта – например, в 20-м линейном полку. Но, как правило, эти элементы мундира были из сукна фонового цвета. В элитных ротах на воротнике носили обычные их отличия – гренады и, видимо, рожки. Как жаловался ветеран, такие полукафтаны быстро изнашивались в Крыму: “неважно по какой цене, новых достать было невозможно.
Обычно новые добывали, покупая полукафтаны убитых офицеров”. Под полукафтаном в Крыму носили темно-синий жилет, застегнутый на множество золотых пуговичек, белую рубашку и черный галстук с двумя свисающими на грудь концами.
Штанины панталон засовывали в походную обувь, в качестве которой применялись большие черные кожаные гетры на пряжках или высокие черные сапоги: во время осадных работ под Севастополем особую популярность приобрели горные сапоги.
Кепи офицеров, в отличие от рядовых, не имел номера на околыше, но зато ему был положен золотой или серебряный фальшивый подбородный ремень (ширина 5 мм) и галуны из металла на тулье и околыше. Старшие офицеры носили по бокам тульи кепи по три галуна (приборного металла), капитаны – два, младшие чины – один галун. Для “горизонтальной тесьмы” (галуны на околыше) была положена следующая система. Сулейтенант: один ряд. Лейтенант: два ряда. Капитан: три. Шеф батальона и майор: четыре.
Подполковник и полковник: пять рядов. Галуны все полагались приборного металла, за следующим исключением (из металла, обратного цвету пуговиц): 1-й и 4-й ряды у подполковника, 1-й снизу у майора, центральный у капитана – старшего аджюдана и 3-й ряд у капитана-инструктора (пешие егеря).
Ремень крепился на околыше кепи двумя форменными или неуставными пуговичками. Козырек был из черной лакированной кожи, часто с подкладкой из зеленого сафьяна. В соответствии с требованиями моды, общая высота кепи с каждым годом уменьшалась, тогда как ширина околыша, соответственно, возрастала. В 1852 г. высота кепи спереди составляла 100 мм, сзади – 150 мм, ширина околыша – 30 мм, козырька – 40 мм посредине. На донце кепи имелся венгерский узел.
На офицерском кивере золотые/серебряные галун (согласно званию) и шнуры, золоченая бляха. Номер на чехле кивера серебристого цвета.
Помпон малого штаба:
красный с белой каймой “султанчик” и синяя “сфера”.
Форменный полукафтан (длина пол 46 см) отличался красной выпушкой по воротнику, борту и обшлажным клапанам. Красные обшлага, позолоченные пуговицы, золотые эмблемы элитных рот на воротнике. В легкой пехоте использовались посеребренные пуговицы, контр-погончики и металл эполет, серебряные символы элитных рот. С 1852 г. вышитые гренады получили старшие офицеры и офицеры полкового штаба пехотных полков. С полукафтаном носился офицерский знак (золотой с серебряной символикой) и эполеты, с бахромой тонкой, длиной 80 мм (младшие офицеры) или же густой, витого шнурка, длиной 60 мм (старшие офицеры). Су-лейтенант: золотые;
эполет с бахромой на правом плече, без бахромы (контр-эполет) – на левом. Лейтенант:
золотые; обратное расположение. Капитан: золотые; два эполета с бахромой. Капитан – старший аджюдан: как капитан, но серебряные. Майор/шеф батальона: золотые; справа эполет с бахромой, слева контр-эполет. Подполковник: серебряные; два эполета с бахромой. Полковник: как подполковник, но эполеты золотые. В легкой пехоте капитан – старший аджюдан выделялся золотом эполет и контр-погончиков. Подполковника же там отличали золотые погоны эполет и контр-погончики при серебряных полуокружиях и бахроме.
Просторный темно-синий дождевик (“кабан”) без капюшона во всей армии имел подкладку из красного сукна (сведения о белом цвете представляются неточными), кроме пеших егерей (небесно-голубой подбой). Офицерам он заменял шинель и редингот. Этот плащ имел стояче-отложной воротник, два разреза сзади (длиной 40-45 см, с черной пуговицей вверху каждого) и два вертикальных прорезных кармана по бокам. Воротник, борт, низ пол, разрезы и карманы обшивались черной шелковой тесьмой, заканчивающейся трилистниками (в верхней части разреза и с обоих концов карманов).
Застегивался дождевик с каждой стороны на четыре черных шелковых шнурка, крепившихся каждый к центру обшитого черной тканью костылька. Дополнительно с правого бока был пришит еще костылек, поменьше, на который крепился шнур (по типу ментишкета), пришитый с левого бока. Обшлага (мыском) тоже обшивались черной тесьмой. Выше них размещались венгерские узлы. В ходе кампании получили распространение “крымские шинели”.
Повседневный поясной ремень офицерской формы был изготовлен из черной кожи, шириной 45 мм, с двумя пассиками и позолоченной бляхой (55х55 мм). В Крыму под ремень обычно надевали цветной кушак. Сабля образца 1845 г. имела черный темляк, в повседневной форме с черной кистью (в Крыму, впрочем, использовался и парадный вариант, где кисть была золотой). Аджюданам полагалась при всех формах офицерская сабля на повседневном ремне и с обычным темляком. В Крыму офицеры во время ночных атак снимали ножны, чтобы их звоном не выдать себя, и шли с обнаженным клинком. В повседневной форме украшения вальтрапа, чемодана и чепрака (выпушки, галуны и номер) из козьей шерсти были красного (желтого в легких полках) цвета.
24 октября 1854 г. легкая пехота была упразднена, и 25 легких полков обращены в линейные, с новой нумерацией, №№ 76-100. Текст, однако, уточнил, что это решение будет приведено в жизнь только 1 января следующего года. Обмундирование и вооружение всех 25 полков были временно оставлены без изменений (подтверждено 30 ноября). Переформирование в Крыму затянулось надолго – прежнее обмундирование сохранялось до изнашивания. Капитан Кюлле из 95-го линейного (бывшего 20-го легкого) полка переносит эту перемену на конец зимы 1854-1855 гг., но нет сомнений, что тогда изменился один лишь номер на кепи. Так, конечно, следует понимать слова Вансона, заметившего 18 ноября 1855 г., что 79-й линейный (бывший 4-й легкий) полк носит “свои новые каскетки”. Лишь в феврале-марте 1856 г. 11-й легкий полк стал и внешне 86-м линейным, “очень чувствительное преобразование для легких полков, имевших более кокетливую форму, более легкое и удобное вооружение, наконец, более развитую кастовость”. В то время су-лейтенант де Латур дю Пэн начинал военную карьеру в рядах 81-го (бывшего 6-го легкого) полка: “Еще носилась форма и сохранялись привычки легкой пехоты: желтый воротник и серебряная пуговица, команда: «Карабинеры, вперед!»”.
(Карабинеры сохраняли и свои традиционные усы.) Только вернувшись во Францию, в 1856 г., полки облачились в уставной мундир.
предписали для бывших легких полков:
Кепи: номер из красного сукна на околыше.
Кивер (текст от 7 июня): красные галуны и шнуры для всех полков – однако, неизвестно, было ли выполнено это распоряжение к 17 мая 1856 г., когда кивера пехоты получили отделку галунами из желтой шерсти.
Новый полукафтан всей армейской пехоты: воротник желтый (выпушка синяя), высотой 50 мм, застегнутый по всей высоте тремя крючками. Выпушка по борту красная, обшлага тоже красные с темно-синими клапанами (выпушка красная).
Длина мундирных пол – 55 см. Украшения воротника в элитных ротах оставлены были прежнего образца.
Шинель: красные клапаны на воротник.
И, напоследок, забавная деталь – если верить сообщениям корреспондентов из Крыма, почти все французские солдаты, многие офицеры и некоторые генералы носили амулеты, христианские, турецкие и даже еврейские, твердо веря в их силу.
Пешие егеря Из имевшихся тогда в составе армии двадцати егерских батальонов (по 10 рот в каждом) в военных действиях в Крыму и на Балтике приняли участие 12 или, по другим данным, 13 (№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17 и 19-й). В отличие от пехоты, у егерей полукафтан (регламент от 8 октября 1845 г.) служил походной формой, в холодное время дополняемой “воротником с капюшоном” (пелерина с капюшоном).
Кивер (высота 190 мм сзади и 160 мм спереди, верха 140-160 мм) обшивали темносиним сукном с желтыми выпушками по бокам. Донце, лента кругом нижнего края (высота 45 мм) и подбородный ремень были из черной лакированной кожи, а галун кругом верха (ширина 20 мм) и петлица кокарды (длина 95 мм) с большой форменной пуговицей полагались желтые. Спереди крепилась кожаная кокарда (70 мм), а на нижней кожаной ленте – номер батальона из белого металла (высота 30 мм). Шерстяной помпон (50 мм) был темно-зеленого цвета во всех ротах и нестроевом взводе; горнисты носили помпон трехцветный. Козырек – как на пехотном кивере, под углом в 25°. Изнутри козырек красили в зеленый цвет, а снаружи обшивали кругом выпуклым ободом. В парадной форме на кивере носился черно-зеленый султан из развевающихся петушиных перьев. На чехле кивера номер наносился белой краской.
Егерское кепи было темно-синее, с выпушками и номером на околыше (у нижних чинов; высота 35 мм) желтыми. Высота околыша составляла 45 мм. Козырек полагался черной лакированной кожи, прямоугольный, шириной посредине 50 мм. Полная высота кепи равнялась 120 мм спереди и 160 мм сзади. Кепи служило походным головным убором егеря, но в начале Восточной войны некоторые батальоны все же носили кивер.
Например, на смотре в Галлиполи 2 мая 1854 г. 9-й батальон показан Вансоном именно в кивере (с султаном), хотя 1-й батальон представлен в кепи.
Цвет сукна полукафтана до 1860 г. официально носил наименование “синий королевский” (темно-синий). Застегивался полукафтан на один ряд из девяти больших форменных пуговиц. Верхний край мундирной юбки был слегка сморщенный, но без появления реальных складок. Воротник (высота 60 мм) был темно-синий с желтой выпушкой. Такая же выпушка шла по остроконечным обшлагам (высота 110 мм), борту и контр-погончикам (длина 90 мм). Мундирные пуговицы были оловянные, 10 мм;
эмблемой служил рожок, в центре коего стоял номер батальона. Эполеты темно-зеленые с желтыми полуокружиями. Размеры эполет: длина бахромы 80 мм, погон – шириной 65 мм (у ворота) и длиной 110 мм, поле эполет – высотой 45 мм и шириной 90 мм.
Куртка (1х9 малых пуговиц) не имела выпушек и погон. На обшлагах (мыском) имелось по две малых пуговицы (одна, собственно, на рукаве), как и на полукафтане.
Панталоны кроились из темно-серо-железного сукна (95 % темно-синей шерсти и 5 % белой) с желтой выпушкой. На каждой штанине спереди было три складки и набедренный карман. “Воротник с капюшоном” (введен 10 января 1854 г., по покрою был сходен с образцом у зуавов) шили из голубовато-серо-железного сукна, без выпушек. Пелерину украшали спереди четырьмя двойными клапанами.
Знаки различия регламент устанавливал следующие. Унтер-офицеры, капралы и рядовые 1-го класса: галуны в виде шевронов (острием вверх) серебряные с желтой каймой или желтые шерстяные. Каптенармус: галун (без каймы) наискось в верхней части каждого рукава. Шевроны за выслугу лет (только на полукафтане) алые шерстяные (серебряные для унтеров). Саперы: на каждом рукаве мундира и куртки желтая шерстяная эмблема в виде скрещенных лопаты и топора. Горнист и капрал-горнист: трехцветный галун на воротнике и обшлагах полукафтана. Горнист-музыкант: серебряный галун на воротнике полукафтана. Шеф батальонного духового оркестра: серебряный галун и нашивки сержанта (22 ноября 1853 г.). Аджюдан: позолоченные эполеты с алой полоской посредине, верхний галун кивера серебряный с алым просветом, помпон трехцветный.
Патронная сума (общая высота 140 мм, длина крышки 205 мм) у егерей была особого образца – ее коробка и крышка имели форму ягдташа, закругленного внизу и суживающегося вверху. Сума (на которой отсутствовала какая-либо символика) крепилась на ремне сзади справа, но при стрельбе сдвигалась вперед. На поясном ремне (длина 1,10 м, ширина 60 мм) из черной кожи крепились лопасть (длина 195 мм) для штыка-тесака и два медных перехвата для ремней ранца. Застегивался ремень на медный крючок с одной стороны и D-образную застежку с другой. Егерский ранец отличался от пехотного варианта только цветом опойка – черный (предположительно, со временем выцветающий до серого оттенка). Чехол куртки из черной кленки в форме чемоданчика; на каждом конце деревянный торец, обшитый той же клеенкой. У саперов ранец был снабжен двумя дополнительными ремешками, вверху и внизу ранца. Они служили для закрепления переносимого ими снаряжения – топор, лопата или кирка.
Вооружение: рядовые, капралы и горнисты – карабин образцов 1846 и 1853 гг. и сабля-тесак образца 1842 г. Карабин с ремнем из черной вощеной кожи (длина 90 см – в пехоте 93 см) с медной полупряжкой. Аджюданы: сабля пехотных офицеров.
На офицерском кивере околыш был черного бархата, а верхний галун, петлица кокарды и шнурки – серебряные. Номер батальона на околыше – рифленый, из посеребренного металла. Помпон шерстяной зеленый, султан как у рядовых (в штабе помпон был трехцветный). На чехле номер батальона рисовали серебристой краской. По традиции (утвержденной официально только в конце столетия), у офицеров черный бархатный околыш (без номера) на кепи. Кроме того, тесьма на кепи серебряная.
Полукафтан офицера шили из тонкого сукна, а юбка его украшалась различным количеством “гофрированных складок”. С марта 1852 г. старшие офицеры на воротник нашивали серебряные гренады. Эполеты полагались по прибору, серебряные, а нагрудный знак – пехотного образца. Точно так же, на пехотный манер, офицеры егерей использовали вне метрополии (и в Крыму) вседневный полукафтан с венгерскими узлами и жилет на малых форменных пуговицах. Панталоны тоже из тонкого сукна, со складками на поясе и съемными штрипками. Как уже было сказано, пешие егеря единственные в армии носили небесно-голубую подкладку на дождевике. Оружием служила сабля старших (прямой клинок) или младших (клинок несколько искривлен) офицеров пехоты образца 1845 г. (кожаные ножны) или 1855 г. (ножны стальные). Чаще, впрочем, использовался неуставной вариант – клинок прямой, а оправа с тремя дужками из стали.
Вседневная портупея – черной лакированной кожи с овальной бляхой из позолоченной меди с S- образной застежкой.
Зуавы Три зуавских полка (по 3 батальона), которых русские солдаты называли “турками”, носили униформу (неисчерпаемый источник вдохновения для армейских карикатуристов), в целом сходную с той, что я описывал ранее на 1870 год. Отличия были следующими.
Иконография и негативы Крымской кампании показывают, что некоторые чины еще использовали куртки с прямыми углами (места соединения бортов и нижние края куртки), старого образца. На таких куртках рукава (узкие, согласно моде, как заметно на фотографиях из Крыма) застегивались на пуговички, а борта обшивались простой выпушкой, без тесьмы. На обоих вариантах куртки рисунок тесьмы и ложных карманов на груди был одинаковым. 2-й полк еще в 1855 г. (планшет И. Белланже) использовал эту куртку старого типа. Необходимо подчеркнуть, что на шее зуавы не носили ни галстука, ни платка.
Тюрбан фески был только зеленого цвета, размерами как кушак. “Известно, что некоторые 4 полки зуавов носят вокруг красной шапки [фески] зеленые чалмы; - сообщают Ошибка автора.
“С.-Петербургские Ведомости” за 1854 г. № 150, - последние возбуждают между турками всеобщее негодование, потому что у них зеленая чалма составляет принадлежность известных сект и потомков Магомета”.
Панталоны могли быть, как в 1830-1840-е г., без тесьмы. Краги в период Крымской кампании еще застегивались сбоку на костяные или кожаные пуговицы. По словам Берга, у зуавов “обувь составляют особые сандалии, а иногда и башмаки”. Ранец, по тексту 1853 г., был “сходен с образцом пеших егерей, но из рыжеватого опойка. Лямки не раздвоенные”. Пехотный ранец получил распространение только с 1854-1856 гг. “Нашим солдатам в зуавах понравилось одно: большие крышки на манерках!”, - вспоминал П. В.
Алабин. Оружие: нарезное ружье со стержнем, штык образца 1822/1847 гг. с небольшим штырем на шейке (ножны пехотные, но из рыжеватой кожи). Унтера и горнисты – артиллерийский карабин образца 1829 Т и его штык-сабля образца 1842 г., а капралы и барабанщики – сабля образца 1831 года. На поясном ремне патронная сума пеших егерей сзади, штыковая лопасть пехотного типа или сабельная лопасть у капралов и барабанщиков. Унтер-офицеры и горнисты: лопасть для штыка-сабли пришита намертво к ремню. Егерский карабин выдали только в 1857 г., но образованные под Севастополем из пеших егерей и зуавов вольные стрелки (октябрь 1854-март 1855 гг.) уже были снабжены им.
Вансон 24 апреля 1856 г. заметил наличие в 3-м полку “серых крымских шинелей, с подвернутыми очень высоко полами, при плоских желтых пуговицах с номером”. Что касается патронной сумы (егерской, согласно уставу), уже на планшете Лалэса 1855 г.
сума пехотная, и Вансон в апреле 1856 г. отметил, что пехотные образцы преобладают у зуавов в Крыму. На картине “Мак-Магон и зуавы на Малаховом кургане, 1855 г.” А. де Невиля 1-й полк показан (8 сентября 1855 г.) в фесках без тюрбанов, при белых гетрах, иные с шинельными скатками, офицеры в полукафтанах (иногда расстегнутых) поверх жилетов. Судя по фотографиям Фентона (№ 20а), в Крыму офицеры зуавов носили свой уставной костюм (полукафтан с венгерскими узлами, жилет, панталоны с лампасами и кепи), а зуавская маркитантка – темно-синий спенсер с красной тесьмой на обшлагах, темно-синюю юбку с красной полосой, прямые красные панталоны и феску без тюрбана.
Алжирские стрелки Тюркосы в период Крымской войны насчитывали три батальона: Алжера (прикладной цвет красный), Орана (белый) и Константины (желтый). Из них был образован временный полк (73 офицера и 2025 нижних чинов), отправленный в Крым.
Последующие перемены в организации корпуса в январе (батальоны были разделены надвое) и октябре (все части были сведены в три полка по три батальона) не отразились на внешнем виде стрелков, который по-прежнему регулировался текстом от 14 февраля 1853 года. Новые полки (№№ 1-3) сохранили прикладные цвета старых батальонов.
Униформа туземных стрелковых батальонов Алжира практически не отличалась от описанной ранее на 1870 год. Различия были следующими. Размеры белого тюрбана фески до 1868 г. составляли 4,80 м на 40 см, как на кушаке. “Воротник с капюшоном” с 1853 г. был из небесно-голубого сукна, на холщовой подкладке, и застегивался на четыре двойных клапана без выпушек. С 26 марта 1855 г., однако, стрелкам полагался вариант из голубовато-серо-железного сукна, который и носили в 1870 году. Лейтенант Лазарев упоминает во время финального штурма Севастополя “арабов”, туземных стрелков, которые могут быть только тюркосами. По его словам, они были одеты “в свои красивые белые плащи” – очевидно, неуставные бурнусы.
Краги в период Восточной войны были еще старого образца, на черных пуговицах.
Снаряжение: пехотная патронная сума образца 1845 г., штыковая лопасть общего образца, у капралов и унтер-офицеров там носилась сабля 1831 г.; ножны штыка как в пехоте, но из мягкой кожи. Вооружение: как в линейной пехоте. Французским офицерам в 1855 г.
предполагалось дать униформу восточного типа, но это намерение так и осталось в стадии замыслов.
Иностранный Легион В мае 1854 г. Император отправил большую часть Иностранного Легиона (состоявшего тогда из двух пехотных полков) в состав Восточной армии. Оба полка выделили по два батальона. Затем, близ Варны, из гренадерских и вольтижерских рот этих четырех батальонов был создан маршевый, или “отборный батальон” майора Найраля (при 1-й дивизии), отправленный в Крым, где отличился при Альме. В октябре на полуострове высадились остальные роты “Кожаных животов”, и батальон был распущен.
Легион составил одну из бригад (“Капустную бригаду”) 5-й дивизии, участвовал в осаде Севастополя. После подписания перемирия Легион (с января 1855 г. “Первый Иностранный Легион”, а с 16 апреля 1856 г. – 1-й Иностранный полк, но реорганизация была проведена в жизнь только в июне) вернулся в Алжир.
Легион использовал униформу, снаряжение и вооружение линейной пехоты со следующими отличиями. Применение кивера ограничивалось исключительными парадами, и есть сомнения в том, что он вообще был выдан – и уж тем более использовался в Крыму. (Регламент от 20 марта 1852 г. предписал оставлять кивер в депо войскам, отправляемым в Северную Африку.) Относительно полукафтана есть мнение, что его не получал рядовой состав ниже звания сержанта, довольствовавшийся курткой и шинелью.
На пуговицах в центре стоял полковой номер, окруженный названием:
“Premire/Deuxime Rgiment Etrangre”. С 17 января 1855 г. на пуговицах появилась новая легенда: “Premire Lgion Etrangre”. Летом в походе или на квартирах легионеры часто использовали панталоны из некрашеного холста, скроенные по образцу суконных.
(В регулярной пехоте эти белые брюки были отменены еще в 1832-1834 гг.) По некоторым данным, офицерский дождевик Легиона имел капюшон. Походная обстановка способствовала распространению бород и усов. (Согласно уставу, бороды дозволялись одним саперам, усы и “мушки” – бородка под губой – фланговым ротам, а центральным ротам – только усы.) 18 января 1856 г. введены стальные ножны для сабель офицеров, произведенных в прошлом году. Впрочем, в Легионе, судя по иконографии, всегда пользовались популярностью не только уставные пехотные сабли, но и образцы, введенные для зуавов и пеших егерей. Ранец образца 1854/1856 гг. появился в Легионе лишь через три года.
Черный кожаный набрюшный подсумок носился (спереди на поясном ремне) и в Крыму, отчего легионеры и получили свою первую кличку – “Кожаные животы”. Сабли образца 1831 г. в Легионе, кажется, уже не применялись, но пехотная патронная сума, видимо, использовалась наравне с подсумком. Оружие: мушкеты 1822 T и T bis.
Источники донесли до нас несколько анекдотов, связанных с костюмом легионеров в Крыму. Самый известный – история о ветеране, пропившем свои сапоги и явившемся на инспекционный смотр босиком, выкрасив ступни в черный цвет, в надежде, что так его проступок не будет замечен. В таком виде он и стоял в снегу!
Во время перемирий под Севастополем, когда обе стороны собирали и хоронили погибших, легионеры спешили снять с русских солдат их шинели, полушубки и сапоги, не говоря уже о прочих мелочах и, конечно, деньгах (если таковые были). Изображение легионера зимой 1854 г. включает одеяло, накинутое на плечи, грязные заштопанные гетры, башмаки-сабо и залатанную униформу. На другом рисунке заметен клетчатый платок, повязанный на уши, под кепи. Здесь обращают на себя внимание холщовые гетры и красный или синий шерстяной кушак поверх шинели, форменной или “крымской”.
Везде присутствует огромный кожаный подсумок, давший прозвище Легиону.
Когда полковой талисман 23-го (Королевского Уэльского фузилерного) полка, козел, был отравлен некими легионерами, он был похоронен англичанами со всеми почестями на кладбище в Инкермане. Ночью те же самые легионеры вырыли гроб, ободрали шкуру с покойника и закопали его обратно. Шкура была разыграна и победитель, проявив некоторую смекалку, сшил из нее удобный и теплый полушубок. Но, проносив ее всего один день, легионер встретил майора того же 23-го полка, который, восхитившись его одеждой, предложил французу 20 фунтов за нее, на что тот с готовностью согласился.
Майор надел полушубок и отправился в полк, а легионер побежал искать выпивку.
История умалчивает о том, был ли опознан материал оного полушубка, и какова была реакция британских вояк на подобную выходку со стороны их союзников… Морская пехота Из состава трех имевшихся тогда полков морской пехоты был образован маршевый полк (полковник Бертен-Дюшато), состоявший в III корпусе (принца Наполеона) Восточной армии. Полк действовал при Альме, участвовал в осаде Севастополя. В ходе кампании он был преобразован в 4-й полк морской пехоты (1854 г.).
По регламенту от 1 июля 1845 г. кивер морской пехоты отличался тем, что его бляха представляла собой орла без короны, держащего в когтях щиток с номером полка. Щиток был окружен дубовой и лавровой листвой, справа и слева его поддерживали два якоря, размещенные вкось. Помпон – желтый, с желтым же (трехцветным в штабе) султанчиком.
Кепи (официально именуемое “каскеткой”) морским пехотинцам полагалось темно-синее с алыми выпушками кругом донца, с каждой из четырех сторон тульи и по верху и низу околыша. Также на околыше находился алый якорь. Отличием морской пехоты служили подбородный ремень с кулисой (на двух малых форменных пуговицах) и круглый (до 1856 г.) козырек. Летом дозволялось носить плетеную соломенную шляпу, нередко отделанную черной каймой по тулье и украшенную эмблемой в виде якоря.
Темно-синий полукафтан (2х7 пуговиц) отделывался алой выпушкой, на воротнике находился алый якорь, а обшлага (мыском) были фонового цвета. Воротник и верхняя часть борта разрешалось отгибать, что позволяло видеть якоря на лацканчиках на груди.
На пуговицах стояли якорь и номер полка. Эполеты были желтые во всех ротах.
Панталоны полагались голубовато-серо-железного оттенка с алым лампасом. Летние панталоны шились из белого холста. Рубашка была белая с черным галстуком.
Снаряжение – белое кожаное, бляха поясного ремня – прямоугольная медная, с якорем. На поясе пехотинцы носили подсумок, штык и саблю образца 1831 г. – обе в черных кожаных ножнах с латунной оправой. Оружие: ударное ружье образца 1853 Т (калибр 17,8 мм). В 1855 г. выдали егерский карабин с пулей Минье, а штык и саблю сменил комбинированный штык-сабля.
Офицеры шили свой полукафтан из тонкого черного сукна. Якоря на воротнике у них были золотыми шитыми, на фоне черного бархата. Пуговицы позолоченные, эполеты золотые. Офицерский нагрудный знак был тоже позолоченный, с посеребренной символикой – орел, который восседал на обвитом канате якоре. В 1856 г. морской пехоте дозволено было носить в повседневной форме полукафтан без эполет, где звания определялись по золотым нарукавным венгерским узлам. Возможно, тогда была лишь узаконена уже применявшаяся в войну практика. С белой рубахой и черным галстукомбабочкой офицеры носили сине-черный жилет, застегнутый на ряд позолоченных пуговичек.
На офицерском кивере галуны были золотыми, бляха – позолоченной; на кепи – золотые галуны из плоской тесьмы, на донце венгерский узел, а на околыше золотой, обвитый канатом, якорь. Парадный поясной ремень был шелковый, с золотым шитьем и тремя алыми полосками, бляха овальная с орлом. Сабля образца 1845 г., в черных кожаных ножнах. На сабельной оправе (из позолоченной латуни) тоже нашлось место морской тематике – якорь ниже короны. В походе офицеры часто вооружались ударным морским пистолетом образца 1837 или 1842-1849 гг. либо кавалерийским офицерским пистолетом 1833 г.
Артиллерия и инженеры По указу Императора от 14 февраля 1854 г., артиллерия Франции имела следующую организацию:
Пять (№№ 1-5) полков пешей артиллерии в составе 12 рот канониров-прислуги, или пеших батарей, и 6 рот канониров-ездовых, или парковых батарей.
6-й артиллерийско-понтонерный полк (12 рот канониров-понтонеров и 4 роты канониров-ездовых).
Семь (№№ 7-13) полков ездящей артиллерии в составе 15 ездящих батарей каждый. Прислугу этих батарей перевозили на зарядных ящиках и передках орудий.
Четыре (№№ 14-17) полка конной артиллерии по 8 конных батарей. Ездовые и прислуга передвигались верхом.
12 рот рабочих артиллерии.
Пять рот оружейников.
Кроме того, в каждом полку имелся штаб, нестроевой взвод и ездящий кадр депо.
Полевые (ездящие) батареи состояли из 6 гаубиц или (конные батареи) 6 легких орудий.
Из всего этого штата, в Крыму действовали более 500 офицеров и 20000 рядовых полевых и осадных батарей артиллерии.
Внешний вид французской артиллерии вплоть до 1860 г. диктовался регламентом от 20 августа 1846 г., с последующими его изменениями и уточнениями. “Войска Восточной армии берут с собой кивер и каскетку”, - гласил приказ военного министра от 28 февраля.
Год спустя, 26 февраля 1855 г., это решение было подтверждено для артиллеристов. В Крыму они носили кивер образца 1846 г. в чехле – так они действовали при Альме. Но во время осады их головным убором стали кепи и фески. Хотя артиллеристы взяли в Крым и мундиры, под Севастополем они фактически носили куртки и шинели. Только унтера и офицеры оставались в мундирах. Берг упоминает двух пленных капралов, “щегольски” одетых “в одни мундиры”, но это явно унтер-офицеры.
Кивер в артиллерии был кожаный, обшитый темно-синим сукном, гусарского образца, высотой 180 мм спереди и 210 мм сзади. Козырек на нем круглый, снизу выкрашенный в зеленый цвет. Галун кругом верха (ширина 20 мм) и треугольные шевроны (углом вниз) по бокам – алого цвета, причем на каждом шевроне черный просвет делил его на два, шириной 19 мм (внешний) и 12 мм (внутренний) соответственно.
Размещенная под кокардой (с петлицей) медная бляха имела форму двух скрещенных пушек (длина 95 мм). Под пушками, на нижней кожаной ленте кругом кивера, стоял номер (высота 23 мм) полка или роты. Однако, ротам оружейников номер не полагался (возможно, вместо него использовалась гренада). Помпон полусферический, диаметром 50 мм, алой шерсти. В нестроевом взводе помпон был трехцветный (красный посредине).
В парадной форме над помпоном носили алый волосяной султан. Всем чинам на кивере полагался алый этишкет, кутасы которого висели на левой стороне лацкана. Для изготовления киверного чехла использовалась черная клеенка, а номер (высота 35 мм) наносили киноварью. Трубачам и музыкантам присвоен был черный меховой колпак (высота 23 см спереди и 26 см сзади). На нем шлык (весь, со шнурками и кистью) был алый, а помпон и этишкет – как у рядовых. Султан, тем не менее, был прямой, хотя и тоже алого цвета. Горнистам (понтонерный полк и роты рабочих и оружейников), однако, вместо колпака приходилось носить обычный кивер, который 2 мая 1854 г. было указано выдавать и трубачам с музыкантами вместо колпака. Цвет кепи (с прямоугольным козырьком) в артиллерии был темно-синий, а для выпушек и гренады околыша выбрали алый колер. Всем артиллеристам на кепи был положен подбородный ремень. Наконец, в форме для конюшни применялось темно-синяя шапочка типа фески (без кисти или козырька).
Мундир в технических войсках по-прежнему оставался (как отличие от прочих войск) фрачного покроя, из синего сукна очень темного оттенка, официально именуемого “королевским синим”. По борту он застегивался на семь пуговиц черненой кости, но их закрывал лацкан (2х7 больших форменных пуговиц). Воротник (высота 60 мм) с вырезом, а обшлага мыском, застегнутые сбоку на малую пуговицу выше обшлага. Алый цвет присутствовал на выпушках лацкана, воротника, низа мундира и ложных карманных клапанов на коротких фалдах. Обшлага, контр-погончики алых эполет и отвороты пол (с темно-синими гренадами) тоже были алого цвета. Пуговицы полусферические медные, диаметром 20 мм (лацкан и карманные клапаны) или 15 мм (обшлага и плечи). Эмблема на них (снизу вверх): полковой номер (кроме рот оружейников), 2 скрещенных ствола и гренада. Покрой куртки 9 июня 1853 г. установлен был по образцу пеших войск. Высота воротника (с вырезом), по регламенту, составляла 50 мм, но под влиянием моды его размеры, как и на мундире, постепенно сокращались. Цвет куртки, как обычно, не отличался от мундирного, застегивалась она на девять пуговиц. Обшлага мыском, погоны из сукна куртки, на воротнике – алые трехмысковые клапаны.
Шинель в артиллерии носили только пешие чины – унтер-офицеры и рядовые полка понтонеров, роты рабочих и оружейников, прислуга пеших и ездящих батарей. Цвет для шинели, как и у инженеров, был выбран темно-синий. Покрой: два ряда по 6 больших пуговиц, расстояние между рядами составляло 220 мм вверху и 110 мм – внизу. Воротник отложной, высотой 80 мм, без какой-либо символики. На рукавах прямые обшлага, на спине – хлястики (как в пехоте), но на плечах ничего не было. Способ ношения шинели был выбран своеобразный – внакидку, “поверх мундира, сабли и патронной сумы, ранец, его надлежит брать, помещается поверх шинели”. Собственно плащ использовался конными чинами: унтер-офицеры всех полков (исключая понтонеров), ездовые и прислуга конных батарей, ездовые ездящих батарей и трубачи пеших, конных и ездящих батарей.
Он был кавалерийского покроя, с пелериной, из темно-синего сукна. “Крымскую шинель” в артиллерии, похоже, не использовали, но с форменной шинелью могли, как и в пехоте, надевать и красную феску без кисти (тот же уставной calotte, но иного цвета), а с курткой
– красный кушак.
В артиллерии темно-синие панталоны с 1829 г. украшали с каждой стороны выпушка и два лампаса (по 30 мм) из алого сукна, отличительный знак всех технических войск до декабря 1914 года. Кроме того, опередив пехоту, уже в 1841 г. брюки получили не только ширинку, но и два кармана на бедрах. Тем, кто ездил верхом, на панталоны нашивали дополнительно штрипки, удерживаемые костяными пуговицами. Также, у понтонеров, рабочих и оружейников брюки внизу были обшиты полоской полотна, или же просто подрублена материя. Конные чины специально для верховой езды были снабжены еще и панталон де шваль кавалерийского образца (установленного 13 мая 1854 г.) с суконными леями и фальшивыми кожаными сапогами, данными им 13 ноября того же года. Но в Крыму активно использовался и старый вариант панталон, с леями полностью из черненой кожи. Наконец, все нижние чины артиллерии, включая унтер-офицеров, располагали и белыми полотняными брюками – их (наряду с синими) можно видеть на канонирах осадной батареи № 33 (14-я батарея 12-го полка) под Севастополем на рисунке лейтенанта Мольцхайма (1855 г.). Сапоги и ботинки с железными полированными шпорами (без чернения) либо, соответственно, башмаки и гетры у артиллеристов были армейского образца, перчатки – белые кожаные.
Снаряжение: черная кожаная патронная сума (на крышке два скрещенных орудия, 110х45 мм, увенчанные гренадой высотой 43 мм) и перевязь (ширина 60 мм) из белой бычьей кожи. Сабельная поясная портупея (кому положено): шириной 45 мм, из белой кожи, с двумя кольцами и S-образной застежкой с двумя медальонами (с артиллерийской символикой на них) из меди. В случае, если портупею носил пеший чин, два пасика заменялись лопастью сабли-тесака. Трубачи (или горнисты у понтонеров): портупея верховых чинов (пеших – у понтонеров), лядунка (с крышкой, выкроенной с тремя мысками – кроме горнистов рот рабочих и оружейников) и перевязь.
Ранец пеших чинов – пехотный, образца 1845 г., с тем отличием, что в нем не было отделения для патронов, а сам ранец – повыше и поуже, 350х340 мм. Чехол мундира или шинели имел белые кожаные ремни, торцы его обшивались темно-синим сукном, без эмблем. Ранец был модифицирован 16 июля 1854 г. и 27 марта 1856 г. – как в армейской пехоте (ремни, скатка шинели и чехол из тика).
Вооружение: ударный мушкетон (образца 1829 г. Т) и сабля-тесак пеших егерей образца 1842 г. – пешие чины. Конные чины получали саблю верховых канониров образца 1829 г. (гусарского типа, с одной дужкой на рукояти, темляк белый кожаный) и кавалерийский пистолет образца 1822 г. Т. Унтер-офицеры пеших батарей, рот канонировпонтонеров, рабочих и оружейников 13 марта 1855 г. получили поясной ремень пеших рядовых артиллерии, предназначенный для ношения сабли-тесака. До этого все унтерофицеры носили поясную портупею верховых чинов и саблю конных канониров. Также в их вооружение входил пистолет (у понтонеров и в ротах рабочих и оружейников – мушкетон).
Конское снаряжение (верховые лошади): сначала образца 1845 г., но в 1853 г. принята новая версия его. Первый вариант включал седло, уздечку и ремни из черненой кожи, белый овчинный вальтрап (с алыми фестами по краю), белый шерстяной чепрак (квадратный, сторона 1,40 м) и темно-синий чемодан (алые выпушки и гренада с прорезным номером на торцах). С 23 июня 1853 г. вальтрап положен из темно-синего сукна с алыми выпушками, галуном и гренадой, чушки – черные овчинные, а седло – из коричневой кожи. Черная полировка полированных железных стремян отменена тогда же.
Вальтрап трубачам и музыкантам оставлен прежний, но из черной овчины.
Знаки различия званий применялись следующие. Галунные шевроны (углом вверх над обшлагом) из алой шерсти или золотой “с зубчиками” с алой каемкой. Первый канонир орудийной прислуги либо ездовой, понтонер, рабочий или оружейник 1-го класса: алый шеврон на каждом предплечье. Рабочий 2-го класса (рабочие роты): алый шеврон только на правом рукаве. Фейерверкер (полки), лодочник (понтонеры), старшие рабочие и старшие оружейники (роты): два алых шеврона только на правом рукаве.
Капрал, сержант и старший сержант (понтонеры, рабочие и оружейники), либо бригадир, вахмистр и старший вахмистр (прочие части), и каптенармус: как в легкой кавалерии.
Трубач или горнист: только на мундире – трехцветный галун (из ромбиков) кругом воротника, по верху обшлагов и кругом трех пуговиц на талии сзади. Бригадир-трубач и капрал-горнист: выше нарукавных шевронов звания – галун должности. Вахмистр-трубач и сержант-горнист: вместо трехцветных – золотые шевроны без каймы, а над ними два золотых шеврона “с зубчиками” старшего вахмистра; на отворотах вышитые золотые гренады. На колпаке меховом султан прямой (алый в основании) и помпон (синий в центре) трехцветные; у капрала и сержанта горнистов был кивер нижних чинов. Шевроны за выслугу лет алые (только с мундиром).
Аджюданы, подобно офицерам, носили мундир из тонкого сукна, с позолоченными пуговицами (но с номером), где гренады на отворотах вышивались золотом. Контрпогончики были серебряные с пунцовым просветом (1 мм), а сами эполет (на правом плече) и контр-эполет серебряные с пунцовыми полосками (10 мм) посредине. Панталоны и снаряжение (лядунка с перевязью и поясной ремень из черной лакированной кожи) с 9 июня 1853 г. тоже были офицерские – в кавалерии эта мера была приведена в жизнь еще 26 декабря прошлого года. Кивер аджюданам полагался как у рядовых, но галун кругом верха – золотой с пунцовым просветом, а шевроны, петлица и этишкет – алые. В 1853 г.
шевроны были отменены, а петлица и этишкет отныне представляли собой отрезки алой шерсти длиной 50 мм, чередующиеся с отрезками длиной по 25 мм, из золотой нити. Кепи офицерское, горизонтальная тесьма – серебряная, а по всем швам – ало-золотая тесьма.
Офицерская униформа во всех частях артиллерии была единого образца. С середины 1850-х гг. обшивка кивера, мундир и панталоны, согласно требованиям моды, постепенно стали изменять цвет на черный. Однако, на Крымскую кампанию, видимо, эти перемены еще не распространяются.
Высота кивера (формально – аналогично образцу для нижних чинов) на протяжении 50-х гг. сокращалась. Кивер обшивался тонким сукном. Кругом верха кивера шел золотой галун “с зубчиками”, ширины следующей. Су-лейтенант: 20 мм. Лейтенант: 25 мм.
Капитан: 30 мм. Подполковник: серебряный, 35 мм (плюс еще внутренний золотой галун в 15 мм). Полковник: как подполковник, но оба галуна золотые. На офицерском кивере шевроны отсутствовали, а номер был заменен позолоченной гренадой (23 мм), увенчанной скрещенными орудиями. (На киверном чехле номер тоже отсутствовал.) Помпон позолоченный, 50 мм, из шнурка (у старших офицеров из матового витого шнура).
Султан из петушиных перьев, алый (трехцветный, в основании синий – старшие чины и полковой штаб), у полковника обычный султанчик; этишкет золотой. В походе (и в Крыму в том числе) офицеры носили кивер “из вощеной клеенки”, с помпоном. Кепи у офицеров не имело эмблемы на околыше, а пуговички фальшивого ремешка могли украшаться полковой эмблемой. В Крыму кепи или кивер вместе с мундиром составляли костюм артиллерийского офицера.
Мундир кроили из тонкого сукна, с позолоченными пуговицами (без номера полка) и вышитыми золотом (с блестками и канителью, в отличие от аджюданов) гренадами.
Контр-погончики были золотые (у капитана-инструктора, капитана – старшего аджюдана и подполковника – серебряные). Приборный металла эполет – золото, бахрома младших офицеров и капитанов – золотая матовая (золотая блестящая в пехоте).
Су-лейтенант:
золотые эполеты, правый – с бахромой. Лейтенант: золотые, левый с бахромой. Капитан:
золотые, оба с бахромой. Шеф эскадрона: золотые, справа эполет без бахромы. Майор:
наоборот. Полковник: золотые, бахрома на обоих эполетах. Лейтенантов (в Политехнической школе) и капитанов (исполняли одинаковые с су-лейтенантами функции) 2-го ранга выделяла пунцовая полоска посредине погона и поля эполета. А серебряные эполеты или тесьма кепи – капитана-инструктора (с золотой бахромой на обоих эполетах), капитана – старшего аджюдана (серебряная бахрома эполет) и подполковника (золотая бахрома).
В сентябре 1853 г. лейтенантам 2-го ранга было велено носить на кепи единую тесьму су-лейтенантов (вместо двух полосок по верху околыша), но это распоряжение так и осталось на бумаге. Зато некоторые су-лейтенанты носили лейтенантские кепи! Галстук из черного атласа, без белой каймы.
В походе, однако, на смену мундиру постепенно приходит однобортный полукафтан на девяти пуговицах, с воротником без клапанов и остроконечными обшлагами. В Крыму, по меньшей мере, один офицер артиллерии 2-го корпуса переделал свой форменный мундир в однобортный, убрав лацкан и заменив костяные пуговицы (или крючки) под ним рядом форменных пуговиц. Под этой импровизацией он носил обычный крымский жилет на пуговичках и цветной кушак под портупеей.
Шинель шили по образцу кавалерийских офицеров, из мундирного сукна, 2х7 больших пуговиц, длиной на 10 см ниже колен. На воротнике клапанов не было, обшлага
– мыском. На спине шинели присутствовали трехмысковые карманные клапаны с тремя пуговицами каждый. Пелерина офицерского плаща (кому он был положен) была длиннее, чем у нижних чинов; воротник – стояче-отложной, застегнутый на розетки с отштампованной головой льва; пуговицы на плаще обтягивались тканью. Форменные панталоны шили из мундирного сукна (алые выпушка и лампасы), с черными кожаными штрипками. О панталон де шваль регламент ничего не сообщает, леи и манжеты по низу штанин у них были из сукна. Обувь: сапоги и шпоры как у рядовых, а также кожаные краги офицеров кавалерии.
Снаряжение офицеров: лядунка с перевязью и поясная портупея из черной лакированной кожи при всех формах. На перевязи – позолоченный прибор (львиная голова и щиток с гренадой). Перчатки белые замшевые. Темляки имелись вседневный (весь из черной лакированной кожи) и парадный (черный шелковый с золотой кистью), кавалерийского типа. Оружие (до 23 августа 1856 г.): сабля офицерского образца 1829 г. и пистолеты для верховых офицеров образца 1833 г.
Конское снаряжение образца 1845 г.:
темно-синие чемодан и вальтрап с алыми выпушками, галуном (вальтрап) и гренадой. С 1854 г. гренада на чемодане и вальтрапе стала вышиваться золотом, и был введен повседневный чепрак, с выпушками и галунами вальтрапа, но без какой-либо иной символики.
Инженерные войска насчитывали к 1854 г. три полка, каждый в следующем составе:
нестроевая рота, рота саперов-ездовых и два батальона по 8 рот (1 минерная и 7 саперных). В осаде Севастополя участвовал в общей сложности один инженерный полк.
Минеры и саперы считались отборными солдатами, почему в их обмундировании присутствовали элементы мундира элитных рот – усы и бородка, красные эполеты и сабля. Походную форму в Крыму составили кивер (в чехле из черной клеенки) без помпона, шинель, панталоны в гетры и выкладка с ранцем, включая белый холщовый (с синими каемками) чехол на патронную суму.
Саперный кивер обшивался черной шелковой (!) тканью, галун кругом верха и треугольные шевроны (острием вниз) были из алой шерсти. Подбородный ремень застегивался на пряжку. Размеры кивера: высота спереди 170 мм, сзади – 200 мм; ширина козырька 60 мм, нижней кожаной ленты – 25 мм. Спереди – алый двойной помпон (гренадерского типа, 45 и 60 мм), кокарда и медная бляха. Последняя представляла собой трофей (каска над кирасой) над гренадой (наложенной на венок из листьев дуба и лавра и пару скрещенного холодного оружия – меч и алебарду) с номером полка на бомбе. У ездовых на кивере дополнительно присутствовал этишкет с двумя кутасами, из алой шерсти, длиной 4,70 м. Этишкет крепился на кивер сзади с помощью алого кордончика.
Кепи у инженеров и артиллерии было полностью темно-синее с алыми шнуркамивыпушками и гренадой (высота 35 мм) на околыше. Козырек прямоугольный, у ездовых присутствовал еще и подбородный ремень.
Мундир оставался старомодного фрачного покроя, сшитый из темно-синего сукна.
Воротник (с вырезом), лацкан, обшлага с клапанами полагались из черного бархата с алыми выпушками. Контр-погончики были алые, как и эполеты (гренадерские). Полы мундира (укороченные для ездовых) с алыми отворотами, украшенными синей гренадой.
Карманные клапаны трехмысковые, вертикальные, с тремя пуговицами и алой выпушкой.
На латунных пуговицах трофей (каска и кираса) в ободке. Нашивки по званиям пехотного типа, алые/золотые.
Куртка (на девяти пуговицах) имела воротник цветом как на мундире, но обшлага прямые, увенчанные малой форменной пуговицей. Шинель, хотя и пехотного покроя, отличалась цветом – темно-синим. На воротник (высота 55 мм) нашивались (занимая всю его переднюю часть) трехмысковые клапаны (ширина 30 мм) из черного бархата с алой выпушкой по трем сторонам. Контр-погончики эполет из алого сукна. Унтер-офицерскую шинель выделяло отсутствие хлястиков и покрой “в талию”. Саперам-ездовым вместо шинели полагался темно-синий кавалерийский плащ с пелериной. Панталоны артиллерийского образца, с двумя алыми лампасами (ширина 30 мм) и выпушкой. Как и прочие конные войска, ездовые (носившие сапоги и белые кожаные перчатки) получили 13 ноября 1854 г. новый образец панталон де шваль, с фальшивыми сапогами.
Патронная сума пехотная, но с медной гренадой на крышке. Плечевые перевязи сумы и сабли, однако, в инженерных войсках оставались из белой кожи. Ружейный ремень тоже из белой кожи. Ездовым, напротив, полагались кавалерийская лядунка (с гренадой) на белой перевязи и белый поясной ремень (застегивался на две медных круглых пластины) для сабли. Чемодан темно-синий с алыми выпушками и гренадой на торце (в бомбе номер полка). Ранец пешие саперы и минеры носили такой же, что был у саперов пехотных полков. В остальном снаряжение инженерных полков ориентировалось на пехоту или (ездовые) легкую кавалерию.
Вооружение: саперы и минеры – вольтижерский мушкет, штык и артиллерийская сабля образца 1816 г. (прямой клинок в “римском” стиле). Унтер-офицеры: шпага 1816 г.
на кожаной перевязи, а вне строя – на черной кожаной лакированной портупее. Саперыездовые: сабля и пистолет легкой кавалерии. Защитное снаряжение включало в себя выкрашенные в черный цвет стальные шлем (“горшок на голову”) и кирасу (с защитным воротом), которых выдавалось примерно по 50 штук на роту. Применявшиеся тогда образцы 1833, 1836 и 1838 гг. отличались только весом – последний весил целых 20,5 кг.
Офицерский кивер, в отличие от рядовых, мог обшиваться не только шелком, но и черным фетром. Шевроны по бокам и верхний галун были золотые. Ширина этого галуна зависела от чина: 25 мм (лейтенанты), 30 мм (капитан) и 35 мм (старшие офицеры).
Полковника и подполковника выделял второй галун (15 мм), причем первый галун у подполковника был серебряный. Помпон как у рядовых. Дополнительно у старших офицеров еще и трехцветный султан, а у полковника – султанчик. На кепи обращали на себя внимание золотые галуны и отсутствие гренады на околыше. Офицерский мундир кроился, как обычно, из тонкого сукна, с золотыми гренадами на отворотах. Эполеты пехотные, золотые. (Чины капитана и лейтенанта 2-го ранга носили посредине эполета полоску из пунцового шелка.) Галстук из черного атласа, перчатки белые хлопковые, а у старших офицеров пеших частей и офицеров саперов-ездовых – кожаные белые. С 10 марта 1854 г. офицерам дозволялось носить в повседневной форме полукафтан из темносинего сукна, на девяти пуговицах. Воротник здесь был украшен клапанами из черного бархата с алыми кантами, а прямые обшлага застегивались на две малых пуговицы.
Вместо шинели все офицеры использовали темно-синий плащ с пелериной, воротник которого застегивался на две круглых бляхи с львиными мордами на них.
Офицеры саперов-ездовых: лядунка офицерская легкой кавалерии, с позолоченной гренадой на крышке. Поясной ремень шпаги или сабли был из черной лакированной кожи.
Застегивался он на две позолоченных пластины, воспроизводящих рисунок форменной пуговицы. Будучи в мундире, офицеры пеших частей использовали для ношения шпаги портупею из ткани с лопастью из лакированной кожи. На чемодане имелись алые выпушки и золотая гренада, а вседневный чепрак отличался выпушкой, галуном и гренадой алого цвета. Оружие: шпага армейского образца 1831 г., потом – особого образца 1855 г., для инженеров. Старшие чины – образец 1831 г. с резьбой, а с 1855 г. – шпага офицеров штаба. Все офицеры инженерных войск в конном строю – сабля и пистолет офицера легкой кавалерии, смененные в 1855 г. саблей старшего офицера пехоты и пистолетом офицера штаба.
Тяжелая кавалерия В Крыму действовали 6-й и 9-й кирасирские полки, а из драгунских полков французской армии туда были отправлены 6-й и 7-й полки. Оба драгунских полка (вместе с 4-м гусарским) дивизии отличились в бою при Кугиле (близ Евпатории) 29 сентября 1855 г. С 20 апреля 1854 г. все полки кавалерии состояли из шести эскадронов.
Каска у кирасир оставалась образца 1845 г., стальная. Передний и задний козырьки стальные с латунной каймой. На верх пригонялся латунный гребень (спереди голова Медузы), а подбородный ремень обшивался латунной чешуей. Тюрбан (околыш) из черного тюленьего меха закрывал и передний козырек и доходил до места присоединения гребня к корпусу. На гребне – красная волосяная кисть и черная конская грива. Слева находился красный перьевой султан и у основания его помпон эскадронного цвета (см.
ниже в разделе о егерях). Кепи: околыш темно-синий, тулья и донце красные с темносиними выпушками, эмблема на околыше (только для нижних чинов) – красная гренада.
ЮКАТ.465255.019РЭ Аппаратура Арлан-1451 Руководство по эксплуатации Часть I ЮКАТ.465255.019РЭ СОДЕРЖАНИ...» О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ) Совершение сделки конкурным управля...» ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Л.Н. ЕЛИСОВ, С.В. ГРОМОВ В работе исследуются проблемы тренажерной подготовки летного состава гражда...»
«Портрет святителя Димитрия Ростовского из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника О.И. Зарицкая Среди портретов иерархов, хранящихся в Сергиево-Посадском музеезаповеднике, выделяется полотно с изображением ростовского Святителя Димитрия Туптало1. Он написан на холсте и имеет значительные размеры широкого п...»
«ОАО Мобильные Телесистемы Тел. 8-800-250-0890 www.sakha.mts.ru Алмаз Федеральный номер / Авансовый метод расчетов Получайте баллы МТС Бонус и обменивайте их на бесплатные минуты, SMS и другие вознаграждения (1 балл = 3 рубля от начислений за Интернет-услуги МТС и 6 рублей от остальных начис...»
«А.В. Вознюк ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ СМЫСЛЫ БЫТИЯ Содержание Введение Смысл как Целое Соответствия, изоморфные триадной модели бытия Смысл как Цель Выводы Дополнение 1. Взаимное соответствие основных бытийных триад Дополнение 2. Основные модели универсальной парадигмы развития Литерат...» сюжетах. Kнига вторая: Издать Книгу; 2013 ISBN 978-1-304-58747-3 Аннотация В книге изве...» Самостоятельная работа – 60 часов. Индивидуальное задание – 1 (самостоятельная контрольная работа). Зачетная работа – 1. Рекомендовані...» возвращение на службу всех ранее уволенных Павлом....» 2017 www.сайт - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»
Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам , мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
На правах рукописи.
Русская армия в Кавказской войне XVIII-XIX вв.
Специальность: 07.00.02 – Отечественная история
диссертации на соискание ученой степени
доктора исторических наук
Санкт-Петербург.
Работа выполнена в Санкт-Петербургском Институте Истории Российской Академии наук
Официальные оппоненты:
Доктор исторических наук Исмаил-
Доктор исторических наук Даудов Абдулла Хамидович
Доктор исторических наук
Ведущая организация:
Санкт-Петербургский университет культуры и искусств
Защита диссертации состоится «25» ноября 2008 г. на заседании Диссертационного совета Д. 002.200.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук при Санкт-Петербургском Институте истории Российской Академии наук (Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д.7)
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского Института истории Российской Академии наук
Ученый секретарь Диссертационного совета
кандидат исторических наук
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ вытекает из потребностей развития исторической науки на современном этапе, особенностью которого является повышенный интерес к проблемам взаимоотношений армии и общества, к процессу включения Северного Кавказа и Закавказья в состав Российской империи. Этот интерес обусловлен исполнением программ реформирования вооруженных сил Российской Федерации, их применением в проведении миротворческих операций, сложной ситуацией в Кавказском регионе.
Другим обоснованием актуальности данной работы является наличие ряда дискуссионных проблем военной и политической истории России, истории национальных отношений, истории империй. Изучение действий европейской армии за пределами породившего ее социокультурного пространства позволяет судить о специфике модернизации России в XVIII-XIX вв., о функционировании государственных механизмов в условиях сильного инокультурного давления.
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ выбран весь комплекс вооруженных сил Российской империи, действовавший на Кавказе в XVIII-XIX вв. а также противостоявший данному комплексу противник. Это - регулярные части русской армии, Кубанское и Терское казачье войско, национальные формирования, Черноморский флот – с одной стороны, ополчения горцев и дружины кавказских «владетелей» – с другой. Термин «Кавказская война» применяется ко всей совокупности вооруженных конфликтов, имевших место в данном регионе в гг.
ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются функционирование европейской армии как системы организованного насилия в неевропейских социокультурных условиях, взаимоотношения комбатантов, принадлежащих к различным военным субкультурам, процесс формирования таких субкультур, механизмы воздействия окружающей среды на военные действия, влияние специфических условий «перманентной войны» на ментальность ее участников, на их персональные и коллективные жизненные стратегии.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявить механизмы возникновения и пролонгации конфликта между военными системами, существовавшими в одну историческую эпоху, но различавшимися своими социокультурными основами.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ, поставленные для достижения вышеуказанной цели:
Определить место Кавказской войны в военной истории России (геополитика, причины, потери, результаты);
Рассмотреть с позиций военно-исторической антропологии военную организацию горцев Северного Кавказа и Отдельный Кавказский корпус армии России;
Оценить влияние природно-климатической и военно-технологической составляющей на ход боевых действий;
Выявить причины малой эффективности европейской стратегии и тактики в местных условиях;
Определить особенности регулярной армии России, казачьих войск и национальных формирований, способствовавшие возникновению и препятствовавшие снижению напряженности в отношении между ними и местным населением.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ определены задачами исследования. Начало присоединения Северного Кавказа к России было положено Персидским походом Петра I гг. Завершением этого процесса по нашему мнению связано с подавлением восстания гг. в Чечне и Дагестане . Развернутое обоснование хронологии – в 1-м параграфе 1-й главы.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Диссертация подготовлена на основе базовых принципов исторической науки, в число которых входит историзм , системность, а также идея многофакторности исторического процесса. Принцип историзма предполагает изучение исторических явлений в контексте их эпохи, что включает в себя корректный перевод ретроспективной информации на язык современной науки. В соответствии с принципом системности объект исследования рассматривается как особая система с присущей ей структурой и механизмами функционирования. Согласно идее многофакторности исторического процесса, события обуславливаются различными факторами (политическими, идеологическими, социальными, культурными, внешними и др.), соотношение которых в разных ситуациях меняется. Проблемно-хронологический подход позволил расчленить проблему на несколько составляющих, каждая из которых рассматривалась в хронологической последовательности. Структурный метод применялся при рассмотрении внутренней организации вооруженных сил России на Северном Кавказе и в Закавказье. Важнейшее место в применявшихся методиках занимает ретроспективный анализа – движение от удаленного к менее удаленному. Таким способом изучалась внутренняя логика конфликта, изменения военной субкультуры во времени. Автор отказывается от парадигмы, заимствованной современными историками из военной историографии XIX – начала XX вв., когда чрезмерное внимание уделялось событийной стороне. Все поставленные в диссертации вопросы решаются на основе системного подхода. Он предполагает изучение проблемы «европейская армия в неевропейской войне» в тесной связи с естественно-географической средой, с развитием военных технологий в широком смысле этого слова (вооружение, организация пространства войны, тактика, стратегия, военная администрация, военное право, военная экономика и пр.). Особое внимание уделялось также системе взаимоотношений в рамках воинских коллективов, а также отношениям между противниками и союзниками.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ
Диссертация обсуждалась на заседаниях Отдела новой истории России Санкт-Петербургского Института истории Российской Академии Наук и была рекомендована к защите (гг.). Результаты исследования изложены в монографии «Русская армия в Кавказской войне XVIII-XIX вв.» (24 п. л.), учебном пособии «История Кавказской войны» (5,5 п. л.) а также в 30 статьях и других печатных работах соискателя общим объемом более 20 печатных листов. Из числа этих статей 7 опубликовано в ведущих рецензируемых журналах.
Основные положения диссертации были представлены на региональной конференции «Россия и Кавказ. Взгляд сквозь два столетия» (2001 г. Санкт-Петербург), на семинарах по истории империй Высшей школы социальных наук (2004 г. Париж), на международном коллоквиуме «Историческая память и общество в Российской империи и Советском Союзе» (2007 г. Санкт-Петербург).
СТРУКТУРА РАБОТЫ построена по проблемному принципу, что соответствует задачам исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, разделенных на параграфы, заключения, списков использованных архивных фондов, опубликованных источников и литературы.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в том, что в диссертации впервые в отечественной историографии фокус исследовательского внимания сосредотачивается на русской армии как на самостоятельном участнике вооруженного конфликта. Такой подход позволяет уйти от малопродуктивного формата дискуссии о причинах и характере Кавказской войны, формата, определенного «генеральным» вопросом: является ли она порождением внешнего воздействия (активизация России на Северном Кавказе) или же конфликт вырос на «внутренней» основе, важной частью которой была военная составляющая горского быта.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Материалы и научные результаты диссертации могут быть использованы при написании обобщающих трудов и учебных пособий по отечественной истории, разработке курсов и спецкурсов по военной истории России XVIII-XIX вв., истории вооруженных сил России, по истории империй, социальной истории техники, военно-исторической антропологии и другим вопросам.
Во ВВЕДЕНИИ приводится обоснование научной новизны и актуальности работы,
определяется предмет, цель, задачи исследования, методологические основы и научно-практическая значимость.
В первой главе «ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ», разделенной на два параграфа, анализируется исследовательская литература и характеризуется источниковая база диссертации.
В основе традиции, обоснованно названной «имперской», лежит утверждение о том, что присоединение Кавказа отвечало государственным интересам России, было исполнением цивилизаторской миссии на Востоке, возвращением некогда утраченных владений (Тмутараканское княжество), оказанием помощи христианам. Это направления историографии представлено П. Зубовым, . Бесспорность тезиса о превосходстве западной цивилизации исключала признание противника равноправной фигурой (как это было в европейских войнах) и не предполагала основательного изучения горской военной культуры. Откровенный евроцентризм этих ученых сам по себе исключал глубокий анализ сущности конфликта, который сводил все к столкновению просвещенного начала с варварством . Небывалая длительность войны (даже если под таковой подразумевалась только борьба с Шамилем в гг.) объяснялась природными условиями края, фанатизмом противника и, самое главное, неразумным отступлением в 1826 г. от победоносной стратегии «правильной осады», применявшейся. Критическое отношение к эпохе Николая I усилило внимание к субъективным факторам («виновными» в неудачах представили кавказских военачальников гг.). В работах по истории Кавказа в описательном виде представлены проблемы адаптации русских войск к горной «нерегулярной» войне, характер действий горцев, казаков и национальной милиции, но практически во всех случаях это используется для обоснования вышеперечисленных историографических построений, осью которых служит схема «стратегической ошибки». Истории «кавказских» полков, написанные военными историками в конце XIX – начале XX вв. несли имперскую традицию «в массы», придавая ей большую устойчивость за счет закрепления ее положений в общественном сознании.
Военно-антропологический подход к изучению вооруженных конфликтов вообще и Кавказской войны в частности был затруднен целым рядом обстоятельств. Топографическая локализация событий военной истории, сама специфика документов, фокусировавших внимание на передвижениях войск, подвигала авторов к сухому описанию походов и битв. Каноны военной истории ставили всех изучавших Кавказскую войну в сложное положение: бесчисленные мелкие стычки не укладывались в парадигму «событийной» традиционной военной историографии.
Советскому периоду исследования Кавказской войны дана основательная характеристика в статье «Проблема Кавказской войны ХIХ века: историографические итоги» в «Сборнике Русского исторического общества» за 2000 г. Главным признаком этого этапа было то, что «…теоретические схемы и моральные оценки преобладали над системой доказательств». В е гг. происходило тасование «антиколониального» и «антифеодального» акцентов, сопровождавшееся поиском классовых противоречий и искусственным «подъемом» уровня развития общественного устройства горцев, что позволяло говорить о классовой борьбе как подоплеке событий.
Изучение Кавказа проходило под жесточайшим идеологическим прессом, важнейшими деталями которого были высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса, которые «…в событиях на Кавказе … усматривали частный случай проявления международного революционного подъема против царской России, героический пример национально-освободительного движения, достойный всеобщего подражания». Состояние советской историографии Кавказской войны демонстрирует судьба книги «Кавказские войны и имамат Шамиля», завершенной в 1940 г. и опубликованной только 60 лет спустя. Автор, связанный идеологическими и методологическими установками, сумел уйти от принятых штампов, рискнул некоторые из них поставить под сомнение, признавал большое значение военно-стратегического фактора в развитии событий. Покровский осторожно говорил об экономических корнях российской экспансии, не избегал упоминаний о набегах горцев, о жестокости, проявляемой обеими сторонами, и даже решался показать, что ряд выступлений горцев нельзя однозначно определять как антиколониальные или антифеодальные.
Повышенное внимание к социальным и экономическим вопросам автоматически отодвинуло на задний план военно-культурный аспект. Тезисов о бездарности царских генералов и героизме горцев оказывалось достаточно для объяснения причин продолжительности войны. Разделение противников по социальному признаку позволяло уйти от их национальной маркировки. Авторы избегали упоминать обо всем, что могло бросить тень на горцев как братьев по классовой борьбе (набеги, кровавые междоусобицы, участие туземной знати в восстаниях). Отрицание «буржуазно-дворянских » ценностей, которые несла на Восток дореволюционная Россия, автоматически снимало вопрос об «азиатском варварстве».
В 1983 году опубликовал в журнале «Вопросы истории» статью, которая стала смелым шагом за рамки «антиколониально-антифеодальной концепции. Он предлагал обратить внимание на внутренние механизмы конфликта, поставил под вопрос обоснованность традиционных хронологических рамок: «…уже в ХVIII веке политика России, постепенно лишавшая горцев традиционных объектов экспансии, приходила в столкновение с интересами организаторов и участников набегов». В монографии этого же ученого, вышедшей в 2004 году, война однозначно объявляется порождением процессов, протекавших в недрах самого горского общества. Блиев признавал то, что Кавказская война сама стала средой, в которой происходили все исследуемые социальные изменения: «Сдвинувшая с места все пласты традиционного жизненного уклада, война переступила все мыслимые и немыслимые пороги привычной жизни». По мнению Блиева непримиримость противоборства России и горцев Кавказа «… основывалась главным образом на принадлежности воюющих сторон к слишком разным и слишком отдаленным друг от друга историческим эпохам. Россия, пережившая промышленную революцию, столкнулась с обществом в стадии революционного перехода от эгалитарности к иерархическому обществу». Исследовательский интерес в данном случае концентрируется на механизмах и формах такого противоборства, на способах смягчения конфликта, на возможности коррекции поведения акторов глобальных процессов.
Заметным явлением в постсоветской историографии Кавказской войны стал выход книги «Кавказ. Земля и кровь», в которой показано, как на практике реализовался некий имперский комплекс идей, как эти идеи трансформировались в соответствии с обстановкой и внешними «вызовами». Оценка Гординым причин Кавказской войны выглядит убедительной, равно как и система аргументации. При этом автор возвращается к идее, оформившейся еще в работах дореволюционных историков: главной причиной затягивания войны стал отход от стратегии «правильной осады».
Академические попытки пересмотра явно устаревших концепций в е гг. совпали по времени с действиями тех, кто стремился к политизированной актуализации истории Кавказской войны, используя при этом ненаучные методы.
Зарубежные историки не предложили сколько-нибудь оригинальных работ по истории завоевания Кавказа. Для подавляющего большинства сочинений XIX – начала XX вв. по справедливому замечанию характерна увлеченность «русофобистскими обыкновениями и кавказской экзотикой». Компилятивность, некритичное отношение к источникам, причудливый сплав «имперского» подхода и обвинительного уклона в характеристике действий России на Кавказе, не позволяют назвать книгу Д. Бэдли, несмотря на ее солидный объем, самостоятельным исследованием. Монография израильского историка Моше Гаммера «Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана» вплотную приближается к грани между научным исследованием и ангажированной публицистикой. Совершенно иной, несравнимо более высокий профессиональный уровень продемонстрирован в книге американского историка Томаса Баррета «На окраине империи. Терские казаки и Северо-Кавказский фронтир. ». В этой работе процесс включения терцев в жизнь региона рассматривается в сравнении с историей вооруженного противостояния индейских племен и белых поселенцев. Хотя все внимание автора сосредоточено на казаках, некоторые его положения о механизмах взаимного обогащения воинских культур, о формировании особого фронтирного быта и менталитета являются применимым и к трансформации регулярной армии в условиях перманентной войны.
В дореволюционной России изучение армии как самостоятельного фактора Кавказской войны было маловероятным, поскольку требовало отступления от большого числа существовавших тогда представлений об историческом сочинении. В советской историографии вероятность появления серьезной работы в таком исследовательском ракурсе также была предельно мала. Во-первых, для этого требовался запрещенный выход за «национально-освободительные» и «антифеодальные» рамки. Во-вторых, тому препятствовал традиционный «военно-полевой уклон» и тенденция к военной биографике. Проблемным блокам «армия и государство», «армия и общество» и сегодня уделяется немного внимания российскими учеными. Несмотря на то, что в последнее десятилетие появился ряд очень ценных исследований в этой области, до сих пор нет работ равных по уровню книгам Д. Байрау, и Д. Кипа. В настоящее время изучение военной субкультуры в различных аспектах стало одним из быстро развивающихся направлений в отечественной историографии, но при этом наблюдается явный «хронологический» крен в сторону XX столетия.
Препятствием на пути всестороннего изучения природы Кавказской войны по нашему мнению является и то, что до сих пор не существует ее научно обоснованных хронологических рамок. Нынешние общепринятые временные границы (гг.) являются конструктом, помогавшим имперским, советским и постсоветским историкам отвечать на «неудобные» вопросы. Таким же конструктом, унаследованным от историков имперского направления, является объяснение длительности войны отходом от стратегии, применявшейся. Складыванию «ермоловской» схемы способствовал такое имманентное свойство военной историографии как «поучительность»: существование вывода, полезного для полководцев следующих поколений.
В основе современных дискуссий о характере Кавказской войны лежит вопрос: что стало причиной такого масштабного конфликта – продвижение России на Кавказ, или реалии самого этого региона (военная активность горцев). Очевидное наличие обеих вышеуказанных причин открывает возможность создания множества версий – от неоимперской до ультранационалистической. Альтернативой подобной малопродуктивной поляризации научных гипотез может послужить военно-антропологический подход.
Американский исследователь Пол Верт справедливо отметил, что в российской и зарубежной историографии отношения между имперским центром и нерусскими сообществами представлены в основном сюжетами, связанными с проявлениями открытого сопротивления (национально-освободительные войны, восстания, религиозные движения и т. д.). Он призвал обращать больше внимание на роль пассивной оппозиционности национальных окраин, которая оказывала огромное влияние на контакты коронной администрации с местным населением. Исследование роли армии в Кавказской войне, с одной стороны, продолжает традицию повышенного внимания к острым конфликтам, с другой стороны, позволяет взглянуть на механизмы перехода мирного противостояния в вооруженную борьбу и обратно, а также сочетания этих форм оппозиционности. Последний феномен был особенно характерен для Северного Кавказа, где «мирные» горцы часто балансировали на грани вооруженного выступления, а власти удовлетворялись их формальным согласием соблюдать условия принятия российского подданства.
Еще одной особенностью изучения истории Российской имперской организации является видение прошлого с позиций «государственного центра », а также (особенно в советское время) «обвинительный» уклон в оценке политики по отношению к национальным окраинам. При этом на периферии внимания оказались вопросы о том, как многонациональной и поликонфессиональной государственной структуре удалось просуществовать в течение нескольких столетий, демонстрируя при этом политическую энергию и добиваясь впечатляющих успехов в области экономического и политического освоения огромных территорий с разными векторами культурного развития. Недостаточно изучена роль державного центра в примирении различных сообществ и территорий, вошедших в состав России. По нашему мнению, к вышеназванным особенностям историографии Российской империи следует добавить представление о неком органическом единстве верховной власти, центральных государственных учреждений и их инструментов, к числу которых относится и армия. Вооруженные силы представляются как рабочий орган, лишенный самостоятельности и управляющийся с помощью исходящих «сверху» импульсов. Представление же это - сугубо априорное, имеющее своей основой умозрительные конструкты, не подвергавшиеся критике с использованием исторических источников. Это положение в силу своей важности требует либо подтверждения, либо существенной коррекции в том случае, если вооруженные силы, способствующие имперскому расширению, выступают в роли достаточно самостоятельного действующей организации.
Изучение поставленных проблем хорошо обеспечено историческими ИСТОЧНИКАМИ разных видов. Основная масса неопубликованных материалов, использовавшихся в данной работе, хранится в Российском Государственном Военно-Историческом Архиве (фонд 482 - Кавказские войны; фонд 846 - Военно-ученый архив; фонд 13454 - Штаб войск Кавказской линии и в Черномории расположенных; фонд 14719 - Главный штаб Кавказской армии). В Российском государственном архиве военно-морского флота (фонд 283 - Главный морской штаб) содержится ценная информация об участии моряков-черноморцев в этой войне. Личный фонд начальника морского штаба (фонд 19) хранит большое количество материалов о боевых действиях во всех районах Кавказа: влиятельный сановник Николая I внимательно следил за происходящим на этой окраине империи. Ряд важных документов удалось обнаружить в фондах Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного исторического архива, в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.
Многие материалы по истории Кавказской войны опубликованы. В 1866 году вышел в свет первый из 12-ти томов публикации документов, собранных Кавказской Археографической комиссией под руководством, а в1876 г. началось издание альманаха «Кавказский сборник». Кроме того, во второй половине ХIХ века были опубликованы многотомные собрания историко-этнографических материалов – «Сборники сведений о кавказских горцах», «Сборники материалов для описания местностей и племен Кавказа». В послереволюционный период также издавались ценные собрания документов – «Движение горцев Северо-Восточного Кавказа» и др.
Обильное цитирование документов из полковых архивов (в большинстве случаев утраченных) позволяют рассматривать уже упоминавшиеся полковые истории в качестве исторического источника. Кроме того, многие из этих работ имеют весьма содержательные документальные приложения.
Ценным источником сведений о событиях на Кавказе и важным средством для критического анализа документов официального происхождения являются мемуары участников войны (более 500 единиц). Широкий круг авторов позволяет взглянуть на события глазами людей с разными уровнями информированности, с разными критериями в оценках событий.
Широкое использование мемуаров в данной работе объясняется тем, что как источник по военно-антропологической истории они не только не уступают официальным документам, но и по многим параметрам их превосходят. Многие реалии Кавказской войны, как впрочем, и других вооруженных конфликтов с трудом находили себе путь на страницы официальных документов, поскольку авторы последних предвидели реакцию адресатов . Когда генерал рассказывал о боях с горцами в Петербурге, ему «…трудно было объяснить, почему война, особливо с народом полудиким, доводит до поступков, обыкновенному понятию о человеколюбии противных». Мемуаристы также, как правило, избегали щекотливых тем, но время от времени «проговаривались» (о расправах с пленными и ранеными, о мародерстве, об использовании горских методов ведения войны и т. д.).
Несмотря на то, что с 1829 г. сведения о боевых действиях и прочих важных событиях начали регулярно публиковаться на страницах таких газет как «Тифлисских ведомостей », «Русский Инвалид», «Кавказ», их информативная ценность для историка невелика. Все материалы проходили столь жесткую цензуру , что авторами публикаций можно считать тех, кто готовил их к печати в Тифлисе и в Петербурге.
Донесения и другие официальные документы - сочинения особого жанра, имеющего свои законы, приемы отражения и искажения действительности, свой язык и внутреннюю структуру. В отличие от Европы, где эпизоды сражения наблюдались и оценивались с разных позиций и разными людьми, на Кавказе очень часто рапорт командира экспедиционного отряда оказывался единственным письменным документом. Важным является и то обстоятельство, что сам военный лексикон XVIII-XIX вв. далеко не всегда годился для адекватного описания местных реалий.
Особенностью корпуса источников о Кавказской войне является то, что подавляющая масса их освещает события с российской стороны. Народы, оказывавшие сопротивление России, не имели своей письменности, а немногие документы, написанные на арабском языке, практически все вышли из-под пера ученых мулл, и содержат очень мало информации, востребованной для данной работы. Кроме того, эти сочинения, сохранившиеся только в печатном виде, прошли жесткую цензуру русских издателей. Эта односторонность источниковой базы создает трудности при реконструкции картины событий двухвековой давности: нет возможности посмотреть на русскую армию глазами противника, собрать репрезентативный материал для анализа восприятия местными жителями поведения чинов Отдельного Кавказского Корпуса.
Вторая глава «ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАВКАЗА В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ XVIII-XIX ВВ.» состоит из пяти параграфов. В первом параграфе «ХРОНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА КАВКАЗЕ В XVI-XIX ВВ.» рассмотрена история боевых действия армии России в указанном регионе. Персидский поход гг. открыл список разномасштабных и регулярных столкновений вооруженных сил империи с горцами, на всем протяжении формировавшейся оборонительной линии от устья Кубани до устья Терека. Присоединение Кабарды и Осетии сопровождалось вооруженными конфликтами разной интенсивности. В последней трети XVIII века русским войскам, отправленным в Закавказье для помощи Грузии в борьбе с Турцией и Персией, пришлось сражаться с отрядами горцев. После присоединения Восточной Грузии к России в 1801 г., Петербург включился в сложнейшую систему местной политики, с неизбежными столкновениями с племенами, жившими на границах с новыми владениями империи. В 1817 г. началось постепенное установление контроля над горными районами Адыгеи , Чечни и Дагестана. Именно бои в этих областях и стали впоследствии называть Кавказско-горской войной. После нескольких крупных поражений в первых столкновениях чеченцы и дагестанцы объявили о своей покорности, но уже в начале 1820-х гг. сопротивление стало нарастать. В гг. Чечня и Дагестан фактически контролировались Шамилем, который был вынужден сдаться только в 1859 г.
Со второй половины XVIII столетия до начала 1860-х гг. продолжались регулярные разномасштабные столкновения в бассейне Кубани. Только весной 1864 г. племена Западного Кавказа одно за другим объявили о своей покорности. После того, как Кавказская война «официально» закончилась, войскам неоднократно приходилось иметь дело с вооруженными выступлениями горцев. В гг. только в Дагестанской области произошло 18 «возмущений». В 1858 г. пришлось «усмирять» ингушей. С мая 1860 по март 1861 гг. после выступления жителей аула Беной власти утратили контроль над горной Чечней. В 1863 г. восстали лезгины в Закатальском округе. В1864 г. потребовалась артиллерия для разгрома зикристов в районе Шали. В 1865 г. вспыхнуло новое восстание в Ичкерии. В 1866 г. подавлением очередного массового выступления завершилось присоединение Абхазии. В гг. пришлось вести полномасштабные боевые действия в Чечне и Дагестане.
Для нашей работы тезис о чрезвычайной длительности войны на Кавказе (1гг.) имеет принципиальное значение, поскольку постоянство этого конфликта оказывало большое влияние на его внутреннее содержание и заметно сказывалось на формировании особого типа кавказского солдата, на поведении регулярной армии.
Второй параграф «ЦЕЛИ И ЦЕНА КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ» посвящен выявлению причин конфликта. Приращение территорий в качестве «жизненного пространства» или сельскохозяйственных угодий не являлось стимулом для имперской экспансии. Неуспех – самое мягкое определение для результатов «крестьянской» колонизации Кавказа. Выдвижение станиц за Терек и Кубань имело своей основой не экономические, а военные резоны: командование пыталось разрушить хозяйственный фундамент сопротивления, создать на границе надежный заслон из военизированных поселений. Существовавший в XVIII в. интерес к местным недрам в начале XIX в. уже угас из-за выявившейся их бесперспективности. Главное минеральное богатство Кавказа – нефть до 1870-х гг. не считалась предметом, из-за которого стоило воевать. До середины XIX века горные предприятия края приносили казне одни убытки. Не оправдались надежды на производство здесь «колониальных» товаров, на пополнение казны за счет налогов с туземцев, на переориентацию грузовых потоков восточной торговли по трассе Баку-Астрахань-Петербург.
Мотивы движения России на Кавказ лежали вне сферы экономических интересов. Главную роль здесь играл военно-стратегический фактор, внутренняя логика конфликта. Обеспечение безопасности подконтрольной территории требовало завоевания или «усмирения» соседней, следствием чего стал процесс известный как «поиск границы». Пестрота и неопределенность этнополитической карты, особенности политической культуры Кавказа вели к тому, что Россия, присоединяя какую-то территорию, принимала в наследство все спорные пограничные вопросы. Поскольку практически все государства и родоплеменные организации имели застарелые конфликты со своими соседями, русская армия, олицетворявшая империю, всегда имела «казус белли». В этом отношении можно провести аналгию с положением французов в Алжире в гг.
Россия заплатила очень высокую цену за присоединение этого края. Армия похоронила на Кавказе около одного миллиона человек, причем на одного убитого приходилось примерно девять умерших. Такое соотношение боевых и санитарных потерь характерно для кампаний, которые вели европейские войска за пределами Старого света. Примерно в таких же цифрах выражаются потери коренного населения Кавказа. Огромными были и финансовые затраты.
Мощнейшим импульсом продвижения России на Кавказ в XIX в. стала материализация имперских идей, выполнение «миссии белого человека».
Отсутствие очевидных целей войны (понятных для участников с российской стороны) вкупе с ее небывалой продолжительностью выдвигали в качестве таковых конструкты, порожденные самой войной. Кавказский корпус шел в бой «потому что так заведено», чтобы отомстить за ранее погибших товарищей, чтобы удержать ранее захваченные рубежи. Фактически война велась ради самой войны, и это многое значило для трансформации Кавказских войск в особый субэтнос.
В третьем параграфе «ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ И НАРОДОВ КАВКАЗА» рассматривается воинская культура региона, причем основное внимание уделено ополчениям горцев. Политическая и социальная организация как мусульманских, так и христианских провинций Закавказья облегчала задачу их покорения: военная и финансовая мощь империи имела там точки приложения – местную феодальную элиту. Комбинация устрашения и сохранения привилегий (имущества) позволила склонить на сторону коронной власти большую часть грузинской и азербайджанской знати. Почти двухвековое пребывание закавказских владетелей в состоянии ограниченного суверенитета в условиях турецкой и персидской экспансии также способствовало снижению резистентности этих структур как самостоятельных государств.
На Северном Кавказе вооруженные силы России столкнулись с ранее еще не ведомым противником: народы, у которых владение оружием составляло одну из важнейших частей быта. Хотя основным занятием подавляющего большинства жителей этого региона было земледелие и животноводство, они хорошо владели оружием и считали участие в военных предприятиях достойным делом. Сами мирные занятия горцев не отменяли обязательное участие неженатой молодежи в набегах, служивших средством социализации. Практически у всех горских народов существовали так называемые мужские союзы, одной из основных общественных функций которых была организация набегов и защита собственных селений.
Природные и этнополитические особенности Северного Кавказа препятствовали военной экспансии горцев за его пределы. Хотя персидские, турецкие и грузинские правители приглашали их участвовать в своих военных предприятиях, огромный военный потенциал Северного Кавказа в основном реализовывался внутри этого края, что привело к созданию особой культуры перманентного военного конфликта. Высокая пассионарность горцев Северного Кавказа привела к разрушению феодальных структур, складывавшихся в ряде районов. Сохранились предания об «изгнании» князей из Чечни, уже на глазах русских произошла фактическая ликвидация ханских фамилий в Дагестане и борьба черкесских князей со свободными общинниками, закончившаяся победой последних. Свою лепту в этот процесс внесли в начале XIX в. и российские власти, нанеся удар по деспотическим правителям восточного Кавказа.
Мощное чувство родовой и племенной солидарности было причиной того, что каждая силовая акция по отношению к одному человеку мобилизовала на его защиту всех, кто чувствовал с ним кровное единство. Все причины, по которым горцы брались за оружие (защита себя, семьи и имущества, месть за родственника, закрепление или повышения социального статуса, захват военной добычи, выполнение роли кунака или вассала, священная война с иноверцами) обеспечивали высокий уровень мотивации их действий. В XVIII-XIX вв. общественное сознание большинства горских народов не осуждало набеговую систему, более того, заметны были попытки найти ей обоснование в религиозной сфере. Русская экспансия на Кавказе привела к созданию большого числа объектов для нападения: агрессивных, чуждых, позволяющих рассчитывать на добычу.
В Новое время европейский солдат превратился в персонал, обслуживающий боевую машину (мушкет, пушку и т. д.). Его цельность как самостоятельного воина разрушалась западными тактическими приемами и системой обучения. Горцы же сохранили эту очень важную цельность, что в условиях маневренной и многовариантной войны имело огромное значение. Их снаряжение, тактика и военные обычаи являлись продуктом многовековой практики постоянных междоусобиц. Основным тактическим приемом был набег, предусматривавший быстрое и внезапное вторжение на вражескую территорию и столь же быстрое возвращение в свои пределы.
В четвертом параграфе «ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИМАМАТА ШАМИЛЯ» рассматривается трансформация горской военной организации в эпоху имама Шамиля. До начала 1830-х гг. рисунок войны определялся в основном сериями ожесточенных, но сравнительно коротких и разрозненных вспышек. Затем наличие центрального руководства проявилось в увеличении длительности и организованности «возмущений». Это было не только следствием деятельности религиозного вождя, но и реакцией на поведение русской армии. Многократные присяги о «покорности» различных родов и этнических групп являлись не более чем средством избежать больших человеческих и материальных жертв, оформлением перемирия. Походы русских войск в «доермоловский» период не выходили за рамки того, что Кавказ переживал не единожды (нашествия персов, монголов, арабов и т. д.). Этим объясняется то, что в гг. после кровавых сражений Чечня и Дагестан признали себя подданными русского царя. Однако дальнейшие действия русских противоречили всем представлениям о войне, которые, в силу высокой милитаризации горского общества, являлись едва ли не основой местной картины мироустройства. Они не ушли, стали вмешиваться во внутренние дела горцев, создав предпосылки для появления имама Шамиля. Большую роль в обострении ситуации сыграла политика Ермолова по отношению к туземной феодальной знати: как и (главнокомандующий на Кавказе в гг.) он многое сделал для подрыва власти ханов, составлявших противовес теократам. Сосредоточение в руках Шамиля невиданных ранее властных ресурсов привело к радикальным изменениям в соотношении сил на Северо-Восточном Кавказе: попытки занять нейтральную позицию карались столь же жестоко, как и сотрудничество с русскими. Правительственные же войска не могли обеспечить безопасность всем, кто был готов прекратить сопротивление.
Основой стратегии Шамиля стало понуждение противника к постоянным передвижениям, которые мешали планомерному проведению операций. Регулярные войска именно на таких изматывающих маршах оказывались наиболее уязвимыми для нападений партизан. Не имея возможности «жестко» оборонять территорию имамата, Шамиль выбрал единственный возможный для него вариант маневренной войны. Имам провел реформу армии, придав ранее аморфным горским ополчениям некоторый порядок, заложил основы системы тылового обеспечения, упорядочил комплектование отрядов. Эти и другие мероприятия, направленные на повышение управляемости войском, с одной стороны заметно усилили сопротивление горцев, которые сумели в 1840-е гг. перейти в стратегическое наступление и фактически установить контроль над большей частью территории Чечни и Дагестана. С другой стороны, концентрация сил снизила маневренность армии имама, лишила ее непредсказуемости. Складывание имамата позволило русскому командованию найти ранее не существовавшую точку приложения силы. Шамиль, вовлекая огромную массу населения в боевые действия, заставлял буквально каждую «ячейку» горского социума убедиться на личном опыте в бесперспективности сопротивления.
Пятый параграф «ПРИРОДА КАВКАЗА КАК ПРОТИВНИК» посвящен вопросу о роли природного фактора в завоевании Кавказа. Военно-антропологический подход сам по себе предполагает учет климатических и ландшафтных условий военных операций. Рисунок вооруженных конфликтов на территории Старого Света соответствовал политической и военно-технической организации пространства. Кроме того, европейское военное дело было теснейшим образом привязано к тем природным условиям, в которых оно сформировалось: густонаселенная равнина, на которой доминируют освобожденные от леса площади, и умеренный климат.
Европейское военное пространство организовывалось в XVIII-XIX вв. прежде всего в интересах пехотных частей. Поэтому во всех европейских языках место сражения называется полем битвы (champ de bataille, battlefield, Schlachtfeld, etc.). Это - отражение практики организации боя на открытом пространстве, необходимом для развертывания войск и управления ими. Горные и лесные массивы считались военными теоретиками серьезными препятствиями, операции в них являлись редкими исключениями. Каждый горец был и разведчиком, и связистом, и начальником штаба, и командиром, и бойцом, и интендантом в одном лице. В регулярном войске все эти функции разделены, и чем больше воинское формирование, тем медленнее движется информация в ту или другую сторону по «технологической военной цепочке», в результате чего утрачиваются преимущества европейской армии. В горной местности резко снижалась эффективность артиллерии, затруднялось управление войсками, возможность штыковых атак.
Природные условия Кавказа вступали в противоречие с основным принципом европейской военной организации того времени - воспитанием и обучением солдата не как самостоятельной боевой единицы, а как части коллектива. Кавказ дробил военную машину, вторгшуюся на его территорию, на отдельные детали и тем самым лишал ее мощности. Разумеется, нельзя назвать природу главным препятствием на пути установления российского владычества на Кавказе, но влияние этого фактора было чрезвычайно велико.
На Кавказе в полной мере проявилась привязанность европейской военной системы к европейскому же климату, рельефу, антропогенным изменениям ландшафта. При кратковременных экспедициях, при незначительной интенсивности боев европейская армия могла в какой-то мере минимизировать воздействие неблагоприятных природных условий. Однако в условиях длительной войны войскам приходилось адаптироваться к окружающей среде, двигаясь по этому пути вслед за туземцами, принимая шаг за шагом их быт и обычаи. В то же время, не могло быть и речи отказа от европейского вооружения и, соответствующей организации войск, ориентированных на действия на открытых пространствах. Поэтому титаническая работа по рубке леса, приспособление ландшафта к своим возможностям было проявлением компромисса между двумя военными культурами.
Третья глава «ЕВРОПЕЙСКАЯ АРМИЯ В НЕЕВРОПЕЙСКОЙ ВОЙНЕ» посвящена трансформации военной системы, построенной по западным моделям, под воздействием реалий Северного Кавказа. В первом параграфе «КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ПРОСТРАНСТВА ВОЙНЫ”» объясняется процесс выбора стратегии (навязывание генеральной битвы, захват важнейших пунктов, создание кордонных линий, проведение масштабных экспедиций, формирование сети укрепленных опорных пунктов, экономическая блокада , превентивные и экзекуционные набеги).
Европейские основы стратегии оказались практически не приемлемыми на Северном Кавказе: ни победы (в европейском понимании) в открытых сражениях, ни устройство оборонительных линий, ни строительство множества фортов, ни походы больших отрядов не приближали к окончательному и бесповоротному «замирению». Не более продуктивными были и разгромы аулов, считавшихся «оплотом» сопротивления (Салты, Ведено, Гимры, Гергебиль, Дарго, Шали и др.). Осознание этого русским командованием приходится только на конец 1840-х гг.
«Рассеивать» горцев, как часто предписывали директивы, исходящие от самого императора, было совершенно бессмысленно, так как, в случае надобности, они сами легко рассредоточивались, а затем, с не меньшей легкостью собирались вновь. Это была не европейская армия, которая для своего возрождения требовала колоссальных организационных усилий, финансовых затрат и продолжительного времени. Отсутствие у горцев военной организации западного типа не позволяло закончить войну одним или несколькими «решительными» ударами.
К устройству кордонных линий и фортов в «стратегически» важных точках подталкивало характерное для Кавказа смешение военных и политических задач. Укрепления возводились «…для указания предела или окраины занятой нами территории». При этом их гарнизоны в большинстве случаев жили в обстановке постоянной тревоги, а границы их влияния ограничивались дальностью прямого выстрела.
Неэффективность крупных экспедиций, превращавшихся большей частью в изнуряющие войска переходы по горному бездорожью , а также прочие вышеназванные стратегические приемы подталкивали кавказское командование к использованию по существу туземной стратегии – к карательным и превентивным набегам. Большинство этих так называемых «частных» экспедиций было рефлексом на военную активность горцев. Только система набегов могла быть сравнительно безопасным средством мобилизации местных ресурсов (провиант и фураж). Набеги вели к «варваризации» войск, к «приватизации» войны, превращению ее в нескончаемую средневековую междоусобицу.
На Северном Кавказе оказались малопригодными и многие тактические установки, основанные на европейских военно-культурных реалиях. Достаточно сказать, что здесь самым ответственным пунктом был не авангард , который в Европе являлся едва ли не синонимом отваги, а арьергард - замыкающая часть колонны. В маневренной войне, без четкого определения фронта и тыла, наступление и ретирада не являлись противоположностями, что не всегда понимали командиры, не вполне усвоившие местные правила. С теми же проблемами организации пространства войны столкнулся и русский флот, которому пришлось вести утомительную «малую», партизанскую войну в морском ее варианте.
Регулярная армия, поставленная в условия «нерегулярной» войны, должна была претерпеть соответствующие этим вызовам метаморфозы. Попытки применить в специфических местных условиях европейские стратегические установки способствовали эскалации конфликта.
Во втором параграфе «ВООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ НА КАВКАЗЕ» основное внимание уделяется применению технических средств ведения войны и экипировке войск России в военно-антропологическом контексте. Основная часть борьбы за Кавказ пришлась на время, предшествовавшее революционным переменам в военной технике, дававшим неоспоримое преимущество европейским армиям в их столкновениях с войсками неевропейскими. В Чечне и Дагестане гладкоствольные ружья со штыком далеко не всегда оказывались универсальным средством боя, а тяжесть артиллерии и боеприпасов в условиях труднопроходимой местности снижала техническое превосходство русских отрядов. Малая надежность ударно-кремневого замка, небольшая дальность прицельной стрельбы ставила русских солдат в невыгодные условия в соревновании с горцами, пользовавшимися винтовками . Переход же к туземному типу вооружения отвергался по целому ряду причин (сопротивление военного руководства, невозможность применения винтовки в рукопашной схватке и т. д.).
Эволюция мундира в ХVIII - первой половине ХIХ вв., проходившая в эпоху господства сомкнутого строя, в большей степени отвечала требованиям военной эстетики а также использованию одежды для управления войсками (сигнальная система, составная часть дисциплинарного комплекса). Обмундирование регулярной армии по своим конструктивным особенностям являлось частью европейской военной субкультуры и потому мало отвечало требованиям местного климата и особенностям перманентной войны. У народов Кавказа детали костюма и оружия позволяли определить не только принадлежность воина к тому или иному роду. Униформа ставила всю армию в положение кровников тех, кто потерял в бою с русскими своих сородичей. Непрактичность обмундирования в условиях постоянных военных тревог вкупе с недостатками интендантской службы стали причиной того, что внешний вид солдат и офицеров Отдельного Кавказского корпуса был далек от уставного образца. Приспособление снаряжения к местным условиям проводилось исподволь и после нескольких лет практического использования закреплялось нормативными актами .
Долгим и трудным был путь выработки особого, кавказского типа крепостных сооружений, наиболее пригодного в местных условиях. Многолетнее сопротивление непригодным нормам в снаряжении и фортификации сыграло огромную роль в выработке особого типа кавказского солдата, в складывании особого менталитета человека, который осознавал, что только от его собственной инициативы и разумения зависит его собственная жизнь и жизнь товарищей по оружию. Реалии Кавказа заставляли русских солдат и офицеров осознать и прочувствовать всю условность культурных европейских императивов в области военного дела. Немалое значение имел отказ от соблюдения уставной формы одежды, поскольку, расставаясь с кивером и прочими атрибутами плац-парадной и одновременно европейской военной культуры, принимая во многом вид туземца, русский солдат повышал свою готовность воспринять и другие элементы горского военного дела.
В третьем параграфе «ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДОВ И ОБЫЧАЕВ ВОЙНЫ» подвергнут анализу процесс «варваризации» армии на Кавказе. Горские обычаи, ориентированные на купирование военного конфликта в «кавказском варианте», нередко становились тем самым культурным элементом, который провоцировал репрессии. Если предоставление крова, уклонение от информации о цели путника, всемерное содействие кунаку являлись средствами смягчения кризисных ситуаций, то русское командование все это рассматривало как соучастие в преступлении. Не меньший ущерб взаимоотношениям нанесли и неоднократные попытки разоружить население. Российские нормы в отношениях лиц, занимающих разные ступени социальной лестницы, переносимые на кавказскую почву, также неоднократно оказывались причиной кровавых событий.
На Кавказе война являлась не тотальной эпидемией разрушений и убийств, а частью повседневности. Действие механизмов, порождающих конфликт, уравновешивалось способами перевода их в латентное состояние и даже полного прекращения. Армия России, являясь конфликтогенным объектом, не располагала арсеналом средств для примирения. Командир роты, солдат которой погиб от руки горца, не мог помириться «обычным» по местным понятиям способом: получить материальное «вознаграждение» и для верности сохранения мирных отношений взять на воспитание мальчика. Случаи, когда обе стороны достигали консенсуса, имели место, но, поскольку это никак не могло получить одобрения высокого начальства, источники не дают ответа о частоте таковых. При родовой организации общества каждая операция правительственных войск порождала тех, для кого отмщение становилось смыслом жизни. Если в местных междоусобицах выявление виновного было делом возможным и, более того, обязательным, так как ошибка вела к возникновению вражды с другим, незаслуженно наказанным родом, то и в случае с русскими горцы не имели возможности «персонифицировать» месть. Внутренние столкновения имели несоизмеримо меньший масштаб, часто выглядели как единоборства. Сам рисунок боев с приходом русских радикально изменился: после десятка батальонных залпов и выстрелов картечью, с последующей кровавой рукопашной схваткой, редко можно было установить – чей штык или чья пуля оборвала жизнь джигита. Поэтому частыми были случаи немотивированной, с российской точки зрения, агрессии горцев. Частой причиной столкновений были безадресные карательные операции. Горцы не понимали, что русские власти действительно не в состоянии провести правильное по местным меркам расследование набега и потому «для острастки» разоряли «подозрительный» и часто действительно непричастный к инциденту аул.
Принятая в Европе норма маркировать границу сторожевыми пунктами и укреплениями привела к тому, что в предгорьях Кавказа появились сильнейшие раздражители для местных племен. Устройство фортов, служившее для россиян не более чем символом политической власти, являлось для горцев неоспоримым признаком посягательства на их земли.
Русские на Кавказе становились объектами нападений и в силу того обстоятельства, что они для горцев нередко оказывались более удобной целью, чем соседи-туземцы. Последние свято исполняли закон кровной мести, всеми силами старались ответить ударом на удар. Иногда власти не наказывали горцев за набеги, ограничиваясь увещеваниями, «прощали» даже серьезные нападения, «забывали» взыскать наложенные штрафы. Непоследовательность русских была провокативным фактором, в одних случаях рождая иллюзию безнаказанности, в других – поражая неадекватностью ответных ударов.
В горском социуме военная организация и само общественное устройство были взаимосвязаны самым тесным образом. В некоторых языках слова «войско» и «народ» были синонимами. Армия, демонстрировала горцам их ближайшее будущее в случае принятия русского подданства: гауптвахты, телесные наказания, командиры - полные хозяева в своих частях. Такой тип отношений был неприемлем не только для свободных общинников, но и для тех народов, где было заметным выделение родоплеменной знати. Горцы считали, что вскоре после «покорения» их ждет рекрутчина или (в лучшем случае) запись в казаки. Власти поддерживали представление инородцев о военной службе как о наказании тем, что широко практиковали отдачу в солдаты заложников-аманатов и лиц, арестованных за различные проступки.
В «европейской» войне XVIII-XIX вв. принадлежность к вооруженным силам обозначалась с помощью определенной и всем понятной системы символов (оружие, мундир, специальные знаки на одежде и т. д.). На Кавказе по внешним признакам отличить мирного жителя от противника оказывалось практически невозможно, поскольку каждый мужчина был вооружен, а униформу заменяла повседневная одежда. История войны в Чечне и Дагестане знает множество примеров того, как ошибки в определении границы между мирными и немирными горцами заканчивались трагически для той или другой стороны.
На Кавказе армия являлась там основным управленческим ресурсом правительства. Фактически военным поручалось не только «покорение», но и «обустройство» края, расплачиваясь кровью за недовольство горцев административными мерами.
Одной из отличительных черт войны на Кавказе было то, что здесь русская армия использовала приемы, совершенно недопустимые в Европе (жестокое обращение с пленными, пленение женщин и детей, уничтожение имущества местных жителей, организация наемных убийств и т. д.). Русская армия отступала от обычаев европейской войны не только по примеру своих противников. К этому ее толкал уже упоминавшийся провал опробованных стратегических схем.
Практика разорительных набегов не привела к соответствующим поправкам в военном законодательстве. При строгом следовании пунктам «Полевого уголовного уложения для Большой Действующей Армии», принятого в 1812 г. весь Отдельный Кавказский корпус должны были расстрелять по приговору полевого суда, поскольку в его составе не было ни одного человека непричастного к уничтожению имущества мирного населения. То, что прямо запрещалось уставом, написанным «для европейской войны», являлось в войне кавказской основной целью боевых действий.
Согласно § 39 и 40 статьи 5-й того же «Полевого уголовного положения» смертью наказывалось «…явное неповиновение или бунт жителей мест и областей армией занимаемых, истребление ее продовольствия и всякое злонамеренное препятствие ее движению и успехам», а также «…склонение к бунту и неповиновению жителей земель, армией занимаемых, хотя бы и не произвело возмущения». При строгом следовании этим пунктам расстрелу подлежало едва ли не все население Северного Кавказа.
Стратегия и тактика русских войск на Кавказе вступала в непримиримые противоречия с правовыми нормами и положениями устава, что в свою очередь сыграло важную роль в формировании типа «кавказца». Отступления от европейских правил ведения боевых действий и обращения с мирным населением на землях, которые предстояло «цивилизовать» были характерны для всех западных армий. Расправы над пленными, добивание раненых, насилия и пытки, изъятие провианта в форме грабежа, стратегия «выжженной земли» - все это применялось французскими, британскими, германскими, бельгийскими, итальянскими и испанскими войсками в Азии, Африке, Австралии и в обеих Америках.
Важным отличием Кавказской войны от «европейской» было отсутствие заметной границы между боем и затишьем, между тылом и фронтом. Почти каждый четвертый военнослужащий был убит или ранен во время бесчисленных стычек, которые указывались в рапортах даже без указания точного места события.
Особый характер Кавказской войны проявлялся в том, что военные здесь занимались не только ратным ремеслом в прямом смысле этого слова (совершали организованное и легализованное насилие), но и решали – к кому, когда и в какой форме это насилие применять. Уровень принятия таких решений (от наместника до отдельного солдата) зависел от комбинации множества факторов, большинство которых по-разному оценивались обеими воюющими сторонами. Если в «европейской» войне политическое решение принималось теми, кто непосредственно не участвовал в конфликте, то на Кавказе такого разделения не наблюдалось. В силу некорректности задачи, поставленной перед вооруженными силами России, граница между миром и войной на Кавказе оказывалась крайне зыбкой, что соответствовало в целом туземным представлениям о мироустройстве. Однако представления о нарушении таковой у обеих сторон оставались различными, а средства для достижения консенсуса – крайне ограниченными.
Военные действия вспыхивали и разгорались на Кавказе потому, что мотивы действий одной стороны в подавляющем большинстве случаев были неизвестны, а главное - непонятны или неприемлемы для другой. Оба участника конфликта неадекватно оценивали поведение противника, причем в основе этой неадекватности лежало жесткое следование собственным представлениям о «правилах игры».
Элементы кавказской народной военной культуры приживались в регулярных частях, а сами они постепенно превращались в своеобразные социальные структуры с чертами, характерными для военно-монашеских орденов, с постоянной готовностью к боевым операциям.
Глава 4-я «ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА КАВКАЗСКОГО КОРПУСА НА ХАРАКТЕР ВОЙНЫ» целиком посвящена анализу «военно-адаптационных» качеств солдат и офицеров, служивших на Кавказе в XVIII - первой половине XIX вв. В первом параграфе «СОЛДАТЫ - КАВКАЗЦЫ» представлен процесс формирования нижнего чина, воевавшего на этой имперской окраине. Система комплектования армии на основе рекрутской повинности способствовала тому, что среди солдат процент лиц, склонных к асоциальному поведению был заметно выше, чем в общей массе населения. Постой частей в великорусских деревнях и городах постоянно сопровождался конфликтами между военными и гражданскими, а на национальных окраинах насилие солдат и офицеров в отношении местного населения зачастую переходило все мыслимые границы. При пополнении ОКК в него направлялось большое число т. н. «штрафованных», т. е. подвергшихся ранее наказанию за проступки. При этом невысокий уровень законопослушания солдат не влиял на их боеспособность. , ставший известным всей России своим подвигом (взорвал артиллерийский погреб укрепления Михайловское, когда туда ворвались горцы), попал в этот форт как раз в наказание за прошлые проступки по службе. Европейские державы также практиковали отправку в колониальные войска лиц с уголовными наклонностями.
Восприимчивость к элементам горской воинской культуры во многом объясняется как демилитаризованностью русского крестьянина, так и феноменом его «растворения» в инородческой среде, что не раз отмечали этнологи.
На Кавказе в условиях перманентной войны солдаты оказывались вне сферы действия воинской дисциплины в ее гарнизонном и наиболее тягостном варианте. Это предопределяло относительную свободу выбора действий нижнего чина, стимулировало боевую активность. Военное воспитание, сама армейская среда деформировала и ослабляла принадлежность к традиционной культуре, что делало нижних чинов более восприимчивыми к разного рода новшествам.
Общинный уклад основывался на принципе своеобразного «антилидерства», стремления быть «как все», который был диаметрально противоположен горскому культу удальства. Если в европейских войнах эта психологическая особенность русских крестьян проявлялась в фантастической спаянности и стойкости частей, то на Кавказе требовался навык принимать самостоятельное решение, брать на себя бремя лидера. Это противоречие было преодолено тем, что каждый нижний чин стремился к лидерству своей части. Соревнование кавказских полков в доблести отмечали многие участники и современники Кавказской войны.
Одним из компонентов самоидентификации служилого человека в России было его представление о том, что государство («казна» и «начальство») в обмен за его подневольную службу брало на себя обязательство о нем заботиться (провиант, обмундирование и т. д.). Кроме того, власть осуществляла руководство – от военного воспитания до конкретных команд в лагере и в бою. На Кавказе человек в шинели оказывался в совершенно ином положении: обеспечение пищей, одеждой, организация ночлега и устройство жилища в подавляющем большинстве случаев являлось его личным делом. Офицеры корпуса не особенно заботились о снабжении своих подчиненных: во-первых, это было практически неисполнимым делом в отсутствии правильно организованного интендантства. Во-вторых, в таком случае им пришлось бы нести ответственность за все эксцессы, неизбежные при реквизициях.
Отсутствие видимой линии фронта, невозможность различать мирных и немирных горцев держали солдат и офицеров в состоянии постоянного стресса. Неадекватных реакций на поступки местных жителей в такой обстановке было не избежать. Солдат Кавказского корпуса имел принципиальное отличие от нижнего чина, участвующего в «европейской» войне. Он в большинстве случаев должен был самостоятельно принимать решения, причем от их правильности напрямую зависела его жизнь. Возможность выслужить чин, дающий право на личное и даже на потомственное дворянство в условиях Кавказской войны, превращалась из призрачной, как это было в других регионах, в практически достижимую реальность. Мирная обстановка оказывалась препятствием на этом пути.
Второй параграф «КОМАНДНЫЙ СОСТАВ КАВКАЗСКИХ ВОЙСК» в основном объясняет причины повышенной мотивации офицеров, служивших на этой имперской окраине. Начиная с 1836 г., практиковались годичные командировки гвардейских и армейских офицеров для приобретения боевого опыта горной войны. Большинство прибывших старалось выслужить крест или чин, и перерыв в походах являлся для них личной трагедией. Гвардейцы-командировочные играли роль неформальных инспекторов. Поэтому им всеми правдами и неправдами старались представить возможность отличиться для представления к ордену. Немалое число офицеров оказывалось здесь под воздействием романтических устных и письменных рассказов, причем приезжали «из России» уже «настоящими кавказцами», что в их представлении было синонимом человека, постоянно рвущегося в бой. Кавказ был притягательным местом для неудачников, пытавшихся в новой обстановке как то исправить карьеру. Служили на Кавказ и совершившие проступок, и подозреваемые в таковом. В 1830-е годы даже формировались отдельные отряды из разжалованных для того, чтобы предоставить им возможность отличиться. На Кавказе корнеты и поручики могли проявить инициативу, немыслимую на полях «европейских» сражений. Вследствие уже упоминавшегося восприятия горской воинской культуры, командирам приходилось поддерживать свой статус не только уставной субординацией, но и проявлениями неформального лидерства, что, в свою очередь, становилась дополнительным фактором обострения ситуации. Специалисты в области военной социологии отмечают стремление офицеров и солдат-профессионалов к активным боевым действиям, поскольку состояние войны соответствует их жизненной стратегии.
Многие элементы военного хозяйства на Кавказе оказывались непригодными. Альтернативой голоду часто была военная добыча. Присоединение Закавказья открыло дорогу в офицерский корпус армянской и грузинской знати, которая в служебном рвении нередко превосходила представителей «титульной» нации, поскольку у местных уроженцев-военачальников в отношениях к противнику содержались и родовые заповеди.
Отсутствие надежной связи между отдельными частями русских войск на Кавказе вело к складыванию совершенно особой ситуации в управлении. Требования оперативности толкали к предоставлению «частным начальникам», как тогда говорили, особых полномочий, поскольку правильная схема: главнокомандующий – подчиненные ему командиры – командиры войсковых частей действовать просто не могла. При этом они несли ответственность за ситуацию в «подведомственном» районе, и лучшим средством выглядеть хорошо в глазах высшего начальства, было проявлять активность. Но даже имитация боевых действий являлась сильнейшим провоцирующим раздражителем для противника. Таким образом, командный состав Кавказского отдельного корпуса по своим характеристикам и особенностям службы был склонен скорее к пролонгации конфликта, нежели к его погашению.
В третьем параграфе «ОТДЕЛЬНЫЙ КАВКАЗСКИЙ КОРПУС КАК СУБЭТНОС» рассматривается процесс складывания специфической общности, обладающей рядом признаков этноса и военно-монашеской организации. Полки, составлявшие ядро военной группировки на Кавказе, находились там без перерывов в течение нескольких десятилетий, что создало благоприятные условия для восприятия горской военной культуры. Несмотря на то, что эти части прославились в боях с пруссаками, шведами, французами и турками, своим главным военным поприщем считали Кавказско-горскую войну, о чем свидетельствуют предания и регалии Апшеронского, Кабардинского, Куринского, Тенгинского, Навагинского и других полков. Некоторые участники боевых действий осознавали эту особенность: «…Кавказская война не есть война обыкновенная; Кавказское войско не есть войско, делающее кампанию. Это скорее воинственный народ, создаваемый Россией и противопоставляемый воинственным народам Кавказа для защиты России..», - писал служивший на Кавказе князь Д. Святополк-Мирский. Осознание себя «местным племенем» проявилось в том, что чины полков, воевавших здесь с «ермоловских» времен, себя именовали «кавказцами», а части, пришедшие на пополнение корпуса в 1840-е годы, называли «российскими», причем последнее выражение имело откровенно презрительный оттенок. Дело доходило до того, что «кавказцы» не считали обязательным оказание поддержки «российским», когда те попадали в трудное положение. При этом выручка тех частей, с которыми устанавливались отношения кунаков, считалась святым делом. Эта взаимная неприязнь частей одной армии очень показательна. Люди с общим языком, религией, присягой и подданством, посчитали все это второстепенным, выдвинув на первую позицию в самоидентификации принадлежность к своему полку. Стратегия выживания в условиях Кавказской войны строилась на корпоративной основе. Солдат осознавал, что его существование полностью зависит от сохранения жизнеспособности (читай – боеспособности) роты. В этом отношении он полностью уподоблялся горцам, для которых условием выживания было благополучие рода. Такая практика организации военного дела была важной причиной того, что на Кавказе власти столкнулись с уникальным явлением – «приватизацией» войны, которая для солдат и офицеров стала не просто выполнением присяги, а личным делом, которое они выполняли не за страх, а за совесть. Если «в России» полковое хозяйство только компенсировало недостатки интендантской системы, то в специфических условиях Кавказа оно способствовало «приватизации войны». Угон артельного скота, уничтожение посевов и построек воспринималось как покушение на собственность каждого солдата, и в ответных действиях с большей или меньшей отчетливостью проявлялись личные мотивы.
Особый характер Кавказской войны проявился в том, что казаки, солдаты и офицеры не только сдавались в плен или перебегали к противнику, но и обращали оружие против своих бывших товарищей по оружию. Ближайшая охрана Шамиля состояла из бывших чинов российской армии, принявших ислам и ставших самыми преданными мюридами. Трансформация кавказского полка в особое «племя» создавала благоприятные психологические условия для того, чтобы бежавший к горцам солдат, например, Тенгинского полка, без смущения стрелял в апшеронца или эриванца, поскольку это вполне укладывалось к его «племенное» сознание. В известной мере этому же служил и пример горцев, которые охотно воевали против своих соплеменников. Если в факте массового дезертирства поляков и татар просматриваются издержки организации и комплектования имперской армии, а также последствия использования службы как формы наказания и санации общества путем удаления элементов, опасных в социальном и политическом отношениях, то в переходе на сторону врага русских (в тогдашнем понимании этого слова) в полной мере проявилась «особость» Кавказской войны.
В пятой главе «ИРРЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА НА КАВКАЗЕ» речь идет об участии в войне терских, кубанских и донских казаков, а также национальных формирований. Первый параграф «КАЗАКИ НА КАВКАЗЕ» посвящен военно-антропологическому изучению процесса складывании специфических милитаризированных территориальных структур в этом регионе. Их главными задачами являлась защита азиатских окраин державы и их «освоение», под которым понималось достижение доминирования «русского элемента» в экономической, социальной и культурной сфере. Особенности формирования терского казачества способствовали тому, что жители станиц этого войска без особых проблем воспринимали горскую культуру. В этом уникальном субэтносе слились и переплавились следующие элементы: 1) вольное казачество с многовековым опытом выживания в экстремальных условиях фронтира; 2)русское старообрядчество с его мощной корпоративной культурой и столь же мощной резистенстностью; 3)туземцы; 4) русское и украинское крестьянство; 5)казаки других войск, переселенные на Кавказ согласно видам начальства. Отражением фронтирного поведения было восприятие терцами «горской» тактики, многих воинских и бытовых обычаев. На Кубани, в отличие от Терека не оказалось «ядра» для формирования казачьего войска на «местном фундаменте», поэтому на северный Кавказ были переселены украинцы – бывшие чины реестровых полков и легендарные запорожцы. Проблемы адаптации кубанцев к особым условиям Кавказской войны во многом объяснялись тем, что в отличие от русских солдат, их военная культура не являлась продуктом казенного воспитания и обучения. Для потомка малороссийских казаков навыки «держать границу» были частью его народного быта. Появление пластунов в кубанском войске можно рассматривать как ответ на горский «вызов», позволявший основной массе казаков сохранить свою военно-национальную идентичность. Полифункциональность вооруженных сил России проявилась на Кавказе в том, что казачьи войска здесь выступали в роли колонистов, а также служили интеграционной структурой для туземцев.
Второй параграф пятой главы «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ» посвящен участию в ней туземных милиций, ополчений и частей, существовавших на постоянной основе. Практика использования местных людских ресурсов в имперских целях началась еще в эпоху Петра I. В гг. представители всех народов Северного Кавказа и Закавказья служили в иррегулярных войсках и участвовали в боевых операциях. Выставление вооруженных отрядов было условием заключения договоров о вхождении в состав России, многие формирования участвовали в операциях добровольно. Милиции и постоянные национальные части по замыслу правительства должны были служить средством интеграции кавказской элиты и местом воспитания административных кадров для администрации этого региона. Привлечение милиций к операциям правительственных войск было одним из проявлений известного имперского девиза «разделяй и властвуй»: командование старалось исключить тем самым возможное объединение племен на антироссийской платформе. Кроме того, военная служба позволяла контролировать многочисленные асоциальные элементы, так называемых «удальцов». Боевая ценность национальных формирований напрямую зависела от «приватной» заинтересованности их участников: они воевали исключительно в своих интересах. Если милицию «заставляли» идти в поход, она или разбегалась, или имитировала участие в бою, или даже переходила на сторону противника. Дагестанский конно-иррегулярный полк был сформирован первоначально из тех, что считал имама Шамиля своим кровным врагом. История национальных формирований на Кавказе является серьезным доводом в пользу того, что устоявшийся в отечественной историографии тезис об антиколониальном, национально-освободительном характере Кавказской войны требует основательной ревизии.
Русская армия самим своим присутствием дестабилизировала обстановку во многих районах Северного Кавказа, поскольку изменяла соотношение сил между туземными родами и племенами. Те, кто принимал русское подданство, автоматически становились под защиту армии, и с этих, гораздо более сильных позиций смотрели на своих соседей. Национальные формирования сыграли положительную роль в окончании войны. Уже упоминавшаяся политическая дробность и аморфность горского общества не позволяла европейской военной машине найти точку приложения своей силы. Действия милиции и частей типа Дагестанского конно-иррегулярного полка доводили едва ли не до каждого жителя представление о «преимуществах» русского оружия, способствуя тем самым погашению конфликта.
В «ЗАКЛЮЧЕНИИ» содержатся выводы, которые формулируются в следующих ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ, ВЫНОСЯЩИХСЯ НА ЗАЩИТУ:
1. Традиционные хронологические рамки Кавказской войны (гг.) являются спорным конструктом, составленным из тезисов дореволюционной, советской и постсоветской историографии. Боевые действия, которые сопровождали процесс включения Северного Кавказа в состав Российской империи растянулся на полтора столетия от Персидского похода гг. до восстания в Чечне и Дагестане 1877-78 гг. Длительность войны стала основной причиной трансформации войск Кавказского корпуса.
2. Вооруженные силы России, оказавшись вне соответствующей социокультурной среды, вынуждены были отказаться от многих элементов западного военного дела, заимствовать таковые элементы у местных народов для более успешного выполнения своих функций. Это проявилось в «приватизации» войны, в «варваризации» войск, в признаках трансформации регулярной армии в своеобразный субэтнос.
3. Специфика политической культуры Северного Кавказа и особенно существование в этом регионе множества суверенных территориальных, социальных и этнических единиц предполагали «убеждение» каждой из этих единиц с помощью насилия или угрозы такового в бесперспективности вооруженного сопротивления правительственным войскам. Такая задача была трудновыполнимой для военной организации европейского типа.
4. У народов Северного Кавказа внутри - и межплеменные конфликты не принимали тотального характера, поскольку механизмам их возникновения противостояли действенные средства их смягчения и прекращения. Армия России, будучи мощной машиной разрушения, такими средствами купирования конфликта не обладала. Поэтому на Кавказе она сама служила постоянным детонатором столкновений.
5. Мотивация военнослужащих к боевой активности была важным фактором дестабилизации обстановки. Использование местных военных ресурсов (национальные милиции, постоянные части из туземцев), необходимость военной колонизации (формирование Кубанского и Терского войска) также были конфликтогенным фактором.
6. Кавказская война представляла собой сложный комплекс конфликтов межгосударственного, этнического, религиозного и социального характера. Наряду с этим одной из важнейших особенностей этой войны было столкновение между двумя военными организациями (горской и российской).
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
Монография:
1. Лапин России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. СПб. Изд-во «Европейский Дом». 20С.- 24 п. л.
1. Лапин адмирала // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XIV. СПб.,1983. С.216-229. – 1,0 п. л.
2. «Если бы не военные, то было бы плохо» // Родина. 1993. №1. С.86-93. – 0,5 п. л.
3. Лапин формирования в Кавказской войне. // Вестник молодых ученых. 2006. №12. Вып. 2. С.26-32. – 0,5 п. л.
4. Лапин рамки Кавказской войны в контексте ее историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Серия 2. История. Вып.3. С.78-,8 п. л.
5. Лапин флот в Кавказской войне // Морской сборник. 2007. №1. С.72,5 п. л.
6. Лапин России в Кавказской войне // Исторические записки. 2007.ТС.139-1,5 п. л.
7. Лапин русской армии в Кавказских войнах XVIII-XIX вв. // Военно-исторический журнал. 2007. №12. С. 20-22. – 0,5 п. л.
Другие публикации:
1. Лапин дореволюционной России в современной западной историографии // Государственные институты и общественные отношения в России XVIII-XX вв. в зарубежной историографии. СПб., 1994. С.7-31. – 2,0 п. л.
2. Wehrpflicht im zaristischen Russland // Die Wehrpflicht: Entstehung, Erscheinungsformen und politisch-militärische Wirkung. München,1994. P.171-180. (Воинская повинность в царской России). На немецком языке . – 1,0 п. л.
3. Лапин Его Императорского Величества конвой. // Проблемы всемирной истории. Сборник статей в честь Александра Александровича Фурсенко. СПб., 2000.С.236-242. – 0,5 п. л.
4. Лапин повинность в России // Английская набережная, 4. Ежегодник Санкт-Петербургского научного общества историков и архивистов. 2000 год. СПб., 2001. С.117-1,0 п. л.
5. Лапин солдата. Рассказ бывшего унтер-офицера Апшеронского полка Самойлы Рябова о своей боевой службе на Кавказе. Предисловие // Россия и Кавказ. Сквозь два столетия. СПб., 2001. С.341-357.- 1,0 п. л.
6. Лапин воинские формирования на Кавказе. (ХVIII-XIX вв.) // Английская набережная, 4. Ежегодник Санкт-Петербургского научного общества историков и архивистов. 2001 год. СПб., 2001. С.84-90. – 0,7 п. л.
7. Лапин формирования в Кавказской войне // Россия и Кавказ. Сквозь два столетия. СПб., 2001. С.108-126. – 1,0 п. л.
8. Лапин -Каспийский транзит в исторической перспективе. // Петербург – окно на Восток. гг. ХII российско-финляндские чтения. Санкт-Петербург. 2002., С.19-20. – 0,1 п. л.
9. Лапин в империи – империя в армии: организация и комплектование вооруженных сил России в ХVI - начале ХХ вв. The Army of Empire – Empire in the Army: The Structure and Recruitment of the Russian Armed Forces in the 16-20 centuries. // Ab Imperio. Теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. Theory and History of Nationalities and Nationalism in the Post-Soviet Space. ТС.109-140. -2,3 п. л.
10. Лапин Кавказской войны. Пособие к лекционному курсу. СПб., 20С. – 5,5 п. л.
11. К вопросу о хронологических рамках и типологии Кавказской войны XVIII-XIX вв. // Страницы Российской истории. Проблемы. События. Люди. Сборник статей в честь Бориса Васильевича Ананьича. СПб., 2003. С. 94-100. – 0,5 п. л.
12. Лапин войска на Кавказе // Военный комментатор. 2005.№ 1(6). С.25-33 – 0,7 п. л.
13. Лапин планы покорения Кавказа // Кавказ и Российская Империя: проекты, идеи, мифы и реальность. Начало XIX – начало XX вв. СПб., 2005. С.9,0 п. л.
14. Лапин армия в Кавказской войне XVIII-XIX вв. // Английская набережная 4. Вып.5. СПб., 2006. С.31-66 – 2,0 п. л.
15. Лапин война в исторической памяти. // Историческая память и общество в Российской империи и Советском Союзе (конец XIX – начало XX века). СПб., 2007. С.153-,7 п. л.
16. Лапин всесословной воинской повинности на Кавказе. (Конец XIX – начало XX вв.) // Власть, общество и реформы в России. История, источники, историография. Материалы всероссийской научной конференции 6-7 декабря 2006 г. СПб., 2007. С.7-22 – 1,0 п. л.
17. Les noms des navires de guerre //Les sites de la memoir russe. T.1. Geographie de la memoire russe. Sous la direction de Georges Nivat. Paris, 2007. P.333-3,0 п. л.
18. Лапин – покоритель Кавказа. Размышления перед портретом // Отечественная история и историческая мысль в России XIX-XX вв. Сборник статей к 75-летию. СПб., 2006. С.439-444. – 0,5 п. л.
19. Лапин в Кавказской войне XVIII-XIX вв. // Армия и общество в Российской истории XVIII-XIX вв. Сборник трудов международной заочной научной конференции. Тамбов, 2007. С.67-72 – 0,5 п. л.
20. Лапин война XVIII-XIX вв. в исторической памяти России // Россия XXI. 2007. №6. С.83-101 – 1,0 п. л.
21. Лапин имперской армии на окраинах империи // Военно-мобилизационная деятельность государства и российское общество в XVII-XX веках. Сборник статей. Тамбов, 2008.С.36,5 п. л.
Дубровин войны и владычества русских на Кавказе. Т.1-6. СПб., ; Зиссерман князь Александр Иванович Барятинский. . Т.1-3. М., ; Зубов П. Подвиги русских воинов в странах Кавказских с 1800 по 1834 год. Т.1-2. СПб., 1836;
Ковалевский Кавказа Россией. Исторические очерки. СПб., 1911; Потто очерк Кавказских войск от их начала до присоединения Грузии. Тифлис, 1899; Потто война в отдельных очерках, эпизодах легендах и биографиях. СПб., 1897; 60 лет кавказской войны. Собр. соч. Т.1. Ч.1. СПб., 1889.
Николаев 50-го пехотного…Белостокского полка. . СПб., 1907; Павлюк 51-го пехотного…Литовского полка. Т.1-2., Одесса, 1909; Шеленговский 69-го пехотного… Рязанского полка. Т.1-3. Люблин, 1911; История 13-го лейб-гренадерского Эриванского… полка за 250 лет. Ч.1-5., СПб., ; Махлаюк в Закавказье. Боевая летопись 14-го гренадерского Грузинского… полка. Второе столетие. . Тифлис, 1900; Протасов 73-го пехотного Крымского.. полка. Ч.1-2, Могилев-Подольский , 1909; Вальтер 75-го Севастопольского…полка. . Тифлис., б. г.; Ракович полк на Кавказе. . Тифлис, 1990; Зиссерман 80-го пехотного Кабардинского… полка. Т.1-3. СПб., 1881; Богуславский Апшеронского полка. Т.1-3., СПб., 1892; Петров 83-го пехотного… Самурского полка. Петровск, 1892; Служба ширванца. . История Ширванского пехотного полка. Тифлис, 1910; Соседко 72-го пехотного Тульского… полка. Варшава, 1901; Мартынов история 46-го драгунского Переяславского полка. СПб., 1899; Эсадзе драгуны на Кавказе. Тифлис, 1898; Потто 44-го драгунского Нижегородского полка. Т.1-11. Тифлис, ; Белькович 38-й артиллерийской бригады. Тифлис, 1884; Лейб-гвардии Сводный полк на Кавказе. СПб., 1896; Козубский Дагестанского конного полка. Петровск, 1909.
Дегоев Кавказской войны ХIХ в.: историографические итоги. Сборник русского исторического общества. М., 2000. №2(150). С.228.
Там же. С. 227
Покровский войны и имамат Шамиля. М., 2000.
Блиев война: социальные истоки, сущность // История СССР. 1983. №2. С. 57, 59.
Блиев и горцы Северного Кавказа на пути к цивилизации. М., 2004.С. 795
Там же. С. 9
Там же. С.10
Гордин: земля и кровь. Россия в Кавказской войне ХIХ века. СПб., 2000.
Дегоев Кавказской войны … С.240
Блиев и горцы Северного Кавказа… С.7
Baddlay J. F. The Russian conquest of the Caucasus. London, 1908
Гаммер М. Мусульманское сопротивление царизму: Шамиль и завоевание Чечни и Дагестана. М., 1998
Barrett M. Thomas. At the Edge of Empire. The Terek Cossacks and the North Caucasus Frontier, . Westview Press. 1999.
Сенявская -историческая антропология как новая отрасль исторической науки. - Военно-историческая антропология. Ежегодник. 2002. М., 2002. С. 6-9.
Beyrau D. Militär und Gesellschaft im Vorrevolutionären Russland. Vien., 1984; Keep J. L.H. Soldiers of the Tsar. Army and Society in Russia. . New Jork., 1985.
Сенявская -историческая... С.8-9.
См. подробнее: Лапин рамки Кавказской войны в контексте ее историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Серия 2. История. Вып.3. С.78-89.
Дегоев Кавказской войны … С.243.
См. От «сопротивления» к подрывной деятельности»: власть империи, противостояние местного населения и их взаимозависимость // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. Сб. статей. М., 2005. С.48-83
Марк фон Хаген. История России как история империи // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. Сб. статей. М., 2005. С.21,25
Воспоминания участников и свидетелей Кавказской войны. Библиография // Гордин: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 2000. С.430-458.
Граббе книжка. М., 1888.С. 147
Эсадзе С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Исторический очерк Кавказско-горской войны в Закубанском крае и Черноморском побережье. Тифлис, 1914. С.109-170.
Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 139-141
Там же. С. 75
Правилова империи. Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. . М., 2006. С.108
Волконский на восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в связи с мюридизмом // К. С. Т.11. С.17-19
Гордин: земля и кровь… С.3-39.
Карпов и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции горцев Кавказа. СПб., 1996.С.34-36, 59, 118-119
Там же. С. 33-34
Гордин: земля и кровь…. С. 133-134.
Волконский на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в связи с мюридизмом // Кавказский сборник (далее - К. СС. 96
К. Обзор событий на Кавказе в 1846 году // К. С. Т.15. С.479
Российский Государственный Военно-Исторический Архив (далее - РГВИА). Ф. 846. Т.1. Д.6266. Л.6-8.
Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 68
РГВИА. Ф.38. Оп.7. Д.262. Л.22
Государственный Архив Российской Федерации (далее –ГАРФ). Ф.678. Оп.1. Д.386. Л.104, 163; Богуславский Апшеронского полка. Т.1. СПб., 1892. С.71
РГВИА. Ф.846. Д.6166. Ч.1. Л.182; РГВИА. Ф. 13454. Оп.1. Д.77. Л.3.
Kierman V. G. Colonial Empires end Armies. . Montreal &Kingston, 1998. P.75,146,160-163
См. Лапин повинность в России. // Английская набережная, 4. Ежегодник Санкт-Петербургского научного общества историков и архивистов. 2000 год. СПб., 2001. С.117-131
Российский Государственный Архив Военно-Морского Флота. Ф.19. Оп.2. Д.209. Л.34; Ракович полк… С.169; Зиссерман 80-го Кабардинского…. Т. 1. СПб., 1881. С. 309.
Мирославский И. Взрыв Михайловского укрепления в 1840 году // К. С. Т.4. С. 1
Kierman V. G. Colonial Empires … P.15-16
Волконский Н. Лезгинская экспедиция в Дидойское общество в 1857 году // К. С. Т.1. С.374-378.
Андреев В. Воспоминания из кавказской старины // К. С. Т.1. С. 89
Лисицина и его дневник // Звезда. 1998. №7. С.129.
Филипсон. М., 1885. С.235-237.
См. Burkhardt J. Soziologie der Gewalt. Opladen. 1997.
Акты Кавказской Археографической Комиссии. Т.11. С.59
Дондуков-Корсаков. Мои воспоминания. // Старина и новизна. Вып. 6. СПб., 1903. С. 52
Загорский И. Восемь месяцев в плену у горцев // К. С. Т.19. С.228-229.




