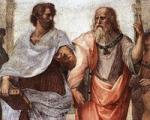Игумения ксения зайцева простые беседы о страстях. Что играет мной? Беседы о страстях и борьбе с ними в современном мире
Галина Калинина .
Что играет мной? Беседы о страстях и борьбе с ними в современном мире
© Калинина Галина, текст, 2014
© ООО «Издательство «Вече», 2014
© ООО «ГрифЪ», оформление, 2014
© ООО «Издательство «Лепта Книга», 2014
Часть I Пленник закона греховного
Я знаю, как на мед садятся мухи,
Я знаю Смерть, что рыщет, все губя,
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю все, но только не себя.
Франсуа Вийон
Глава 1. Начнем с конца
Пред человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему.
Сир. 15, 17
Загробная жизнь… Что будет там, за пределами жизни? Этот вопрос волнует каждого из нас: кто-то задумывается над ним часто, кто-то старается отогнать мысли о посмертном существовании как можно дальше.
Но умереть… уйти – куда, не знаешь…
Лежать и гнить в недвижности холодной…
Чтоб то, что было теплым и живым,
Вдруг превратилось в ком сырой земли…
Чтоб радостями жившая душа
Вдруг погрузилась в огненные волны,
Иль утонула в ужасе бескрайнем
Непроходимых льдов, или попала
В поток незримых вихрей и носилась,
Гонимая жестокой силой, вкруг
Земного шара и страдала хуже,
Чем даже худшие из тех, чьи муки
Едва вообразить мы можем?
О, это слишком страшно!..
И самая мучительная жизнь:
Все – старость, нищета, тюрьма, болезнь,
Гнетущая природу, – будет раем
В сравненье с тем, чего боимся в смерти»1
Шекспир . Мера за меру.
В самом деле, что бывает после смерти? Небытие, как, впрочем, и загробное бытие, трудно представимо человеческому рассудку. Единственное, что мы знаем о будущем существовании, единственное, в чем мы уверены, – это то, что вместе с жизнью исчезнет и время. Перешагнув через этот последний порог, мы оказываемся в вечности. И именно «вечность» (а не «неизвестность») – самое страшное слово во всех наших рассуждениях. Ведь в этой, временной жизни мы порой готовы терпеть лишения, скорби, обиды, дикую боль… В определенной ситуации мы согласимся даже на нечеловеческие мучения и будем стойко сносить их, осознавая их конечность. Порой, переживая серьезные неприятности, поддавшись отчаянию, думаешь грешным делом: «Эх, жить надоело!». Как бы ни была греховна эта мысль, но возможность собственной волей покончить со своими страданиями придает нам силы жить дальше и терпеть беды, которые, приобретая статус временных, уже не кажутся столь ужасными.
Именно слово «вечно» (или «никогда» в атеистическом варианте) больше всего пугает нас в размышлениях о смерти.
Пугает потому, что даже самое лучшее наше состояние, самое любимое занятие, помноженное на «вечность», не представляется привлекательным. В моменты философских размышлений и нравственных исканий мы пытаемся представить себе идеальную вечность, вечность, в которой нам хотелось бы поселиться. И не можем. В самом лучшем случае наше воображение рисует то, чего мы не имеем. Так, голодный может представить себе сытую вечность, но человек, имеющий возможность есть вволю, никогда не захочет оказаться на нескончаемом пиру. Любое, даже самое изысканное удовольствие вызывает чувство пресыщения, если мы получаем его в большом количестве. Ощущение удовлетворения длится считанные секунды – задержать его мы не в состоянии. И причина этой скоротечности удовольствия содержится вовсе не в окружающем мире, а, напротив, в самом удовольствии, в его глубинной сущности.
Если разобраться, что приносит нам удовольствие? Исключительно удовлетворение желания, удовлетворение страдания по поводу отсутствия чего-либо в нашей жизни. Еда приносит удовольствие только голодному; объевшемуся человеку становится плохо от одного вида пищи. То есть удовольствие от еды – это всего лишь прекращение страдания голодного. Удовольствие от плотской любви получает только тот, кто желает плотских утех. Изнасилованному человеку соитие не приносит никакой радости. Для человека, не ищущего славы, почет и известность будут только в тягость. И если ты не испытывал гнева или зависти к ближнему своему, то никогда не обрадуешься его беде.
Наше земное существование полно страдания и неудовлетворенных желаний. Если у вас весь день сильно болел зуб, то вы почувствуете себя почти счастливым, когда боль пройдет. Но вы же не будете пребывать в состоянии блаженства всю оставшуюся жизнь только потому, что зуб больше не болит.
Если вы замерзли и промокли, то испытаете несказанную радость, оказавшись в теплом уютном доме и получив в придачу сухие носки и чашку горячего чая. Но сколько времени будет продолжаться ваше довольство жизнью? Таким образом, радости, получаемые нами, всего лишь сиюминутное прекращение этой вечной муки; одним словом, и не радости вовсе, а только отсутствие страдания.
Возникает закономерный вопрос: если мы не испытываем радости как таковой, то, быть может, ее и нет вовсе? Увы, человек, рожденный слепым, не в состоянии осознать, как прекрасен мир, он не понимает, чего лишается из-за отсутствия зрения. У человека, постоянно испытывающего боль, притуплены все ощущения. Он привыкает к боли, считает ее нормальным своим состоянием. И только избавившись от боли, он наконец поймет, что значит жить полной жизнью.
Но вот удивительно: бывает, что слепец не только не жаждет прозреть, но и боится исцеления. Ему может казаться, что, приобретая зрение, он лишится чего-то очень важного, потеряет остроту ощущения. Так и нам представляется, что лишись мы сильных желаний – исчезнет удовольствие от их удовлетворения, то единственное удовольствие, которое нам доступно. И мы только сильнее разжигаем свои желания, либо постоянно потакая им и делая их, таким образом, еще более изощренными, либо лелея их в душе и удовлетворяя их только изредка, усиливая тем самым степень удовольствия.
Но разве не логичнее было бы бороться со своими желаниями, справляться с ними и тем самым избавлять себя от страданий, связанных с их неудовлетворенностью?
Православие мыслит радость как нормальное, естественное и правильное состояние человеческой души. Только вот под радостью подразумевается не сиюминутное удовольствие, вызванное временным освобождением от страдания путем удовлетворения желания, а именно высшая радость, которую получает человек от присутствия в сердце Святого Духа. Страдание же, напротив, рассматривается как состояние противоестественное и неправильное. Это сильно противоречит общепринятому стереотипу, в котором Православная Церковь якобы требует от человека постоянного насилия над собой во имя будущей награды в виде рая. Принимаемая многими людьми система «торгово-денежных» отношений с Богом по принципу «ты – мне, я – тебе» по сути своей противна истинной религии и истинной вере. Если она и допускается в некоторых объяснениях сути Православия, то исключительно по снисхождению к человеческой слабости и человеческому неразумию.
Возьмем в качестве иллюстрации сказанного бытовую ситуацию. Ребенок заболел, и родитель уговаривает его выпить лекарство, понимая, что это необходимо для здоровья. Ребенок отказывается, потому что лекарство горькое. Родитель любит ребенка и понимает, что лекарство выпить необходимо. И одновременно жалеет маленькое глупое существо, которое само не ведает своей пользы. В результате родитель предлагает сделку: выпьешь лекарство – дам конфетку. Истинный смысл сделки остается от ребенка скрыт, малыш не понимает, что забота родителя выражается вовсе не в конфете, а именно в лекарстве, помогающем побороть болезнь. Эта ситуация, которую ребенок осмысляет как «я – тебе, ты – мне», со стороны родителя расшифровывается как «я – тебе, я – тебе». Можно представить и другой пример. У ребенка ангина, и ему нельзя мороженое. Родитель, опять же из заботы о здоровье ребенка, запрещает ему есть мороженое, угрожая наказанием. И ребенок соответственно не ест мороженое из страха перед наказанием, видя в этом строгость родителя, хотя, по сути, в обещании наказания, точно так же, как и в первом примере, видна забота родителя о здоровье ребенка. Родитель же, в свою очередь, понимает, что истинной наградой будет не конфета, а выздоровление, а истинным наказанием – не шлепок, а усиление болезни.
Очень часто мы ведем себя именно как такой ребенок, а посему воспринимаем религию как систему «поощрений – наказаний». Сколь часто слышишь фразы типа «ты получил болезнь в наказание за грех». Но это наказание равносильно шлепку за съеденное во время ангины мороженое. В посылаемых нам болезнях в большей степени содержится предупреждение . Заметьте, часто именно болезни удерживают нас от некоторых грехов, заставляют бороться с греховными желаниями. Так, злоупотребление пищей, алкоголем, табаком неизбежно ведет к тем или иным заболеваниям. Зарабатывая свои бронхиты, язвы, циррозы печени, мы приостанавливаем греховную деятельность. А для чего мы просим Господа избавить нас от болезни? Для того чтобы снова спокойно предаваться грехам?
Авва Полихроний рассказывал, что в монастыре Пентуклы был один брат, весьма внимательный к себе и строгий подвижник. Но его обуревало плотское желание женщины. Не вынеся испытания, он вышел из монастыря и отправился в Иерусалим, чтобы поддаться греху окончательно. Но лишь только он вошел в жилище блудницы, как вдруг весь покрылся проказой. Увидав это, он немедленно вернулся в монастырь, благодаря Бога и говоря: «Бог послал мне эту болезнь, да спасет мою душу». И воздал великую хвалу Богу.
Луг духовный.
В том, что святые благодарили Господа за свои болезни, не было ни капли мазохизма. Мало того, не было в этом и «торговли»: сейчас поболею, зато потом будет хорошо. Нет, напротив, они, как разумные дети, благодарили родителя за шлепок, который помешал съесть еще одну порцию мороженого. Они благодарили Бога, Который не оставил их один на один бороться со своими желаниями, а помог и вразумил посредством малого наказания.
Что же мешает человеку уподобиться этим мудрецам? Что же заставляет нас непрерывно нарушать волю Отца Небесного и вредить себе всеми возможными способами?
Глава 2. О грехопадении и первородном грехе
Прежде чем ответить на этот вопрос, нам придется вернуться к самому началу, к началу истории нашего мира и человека. В Священном Писании, в книге Бытия, повествуется о том, как Господь сотворил видимый и невидимый мир, живую и неживую природу и человека. Человек был создан последним из всех живых существ. На лестнице земных творений человек поставлен на наивысшей ступени и в отношении ко всем земным существам занимает господствующее место. Человек равно принадлежит к миру духовному по своей душе и к миру вещественному по своему телу и потому есть как бы сокращение обоих миров и справедливо издревле назывался малым миром2
См. «Православно-догматическое богословие» митр. Макария Московского.
Бог сотворил человека для того, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял Его и через это вечно блаженствовал. Если спросить родителей, для чего они родили ребенка, они (если, конечно, это нравственно здоровые люди) ответят, что для радости и счастья. Разве может еще какое-либо назначение человека казаться более важным для него, ведь Сам Господь Бог и Творец – всемогущий, всеблагой, вседовольный. Разве имеем мы, люди, нужду в дитятке, кроме желания любить его и заботиться о нем? Тем более всемогущий Господь не имеет ни в чем нужды и Сам захотел создать человека для любви и блаженства. Но дьявол позавидовал блаженству прародителей и соблазнил их впадением в грех.
До грехопадения человек не имел каких-либо изъянов в своей природе. Как и все творение Божие, человек был совершенным. Более всего совершенство его природы выражалось в способности приобщаться Богу, участвовать в Божественной жизни. Но совершенство первозданного человека не было полнотой духовно-нравственного совершенства. Человеку предстояло развиваться и совершенствоваться путем собственной деятельности. В богоподобной и безгрешной природе ему была дарована только способность к постепенному и нескончаемому совершенству.
«Бог сотворил человека непорочным, правым, любящим добро, чуждым печали и забот, сияющим всеми совершенствами, преизобилующим всеми благами, (…) сотворил смешанным из двух природ, созерцателем твари видимой, таинником твари, умом постигаемой, царем всего, что на земле, подчиненным Верховному Царю, земным и небесным, временным и бессмертным, видимым и постижимым для одного ума, как нечто среднее между великим и низким; сотворил духом и вместе плотию: духом для принятия благодати, плотию в предупреждение гордости; духом для того, чтоб он твердо стоял и прославлял своего Благодетеля, плотию для того, чтоб подвергался страданиям и, страдая, не забывал себя и вразумлялся, если бы вздумал превозноситься своим величием; сотворил животным, поставленным здесь, то есть в настоящей жизни, и переселяемым в другое место, то есть в будущую вечную жизнь, и – что составляет верх тайны – существом, обожаемым за свое прилепление к Богу, и обожаемым по причастию Божественного озарения, а не претворяемым в Божию сущность»3
См.: Свт. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Книга 2, гл. 12.
Почему же Господь попустил грехопадение?
Тремя величайшими дарами наделил Творец человека при его создании: свободой, разумом и любовью. Дары эти необходимы для духовного роста и для блаженства человека. Но там, где свобода, возможно колебание при выборе, возможен соблазн.
Соблазн для разума – возгордиться умом: вместо познания премудрости и благости Божией, познания Бога, в котором полнота всего, искать познания добра и зла вне Бога; возжелать самому быть «богом». Соблазн для чувства любви: вместо любви к Богу и ближнему любить самого себя и все то, что удовлетворяет низкие желания и дает временные наслаждения. Эта возможность соблазна и падения стояла перед человеком, и первый человек перед нею не устоял.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Почему Бог допустил падение человека, Своего любезного создания и венца всех творений земных? На этот вопрос надо отвечать так: что если бы не допускать человека до падения, то его не надобно было создавать по образу и подобию Божию, не давать ему свободной воли, которая есть неотъемлемая черта образа Божия, а подчинить его закону необходимости, подобно бездушным тварям – небу, солнцу, звездам, земному кругу и всем стихиям, или подобно бессловесным животным; но тогда на земле не было бы царя земных тварей, разумного песнесловца Божией благости, премудрости, творческого всемогущества и промышления; тогда человек не мог бы ничем доказать своей верности и преданности Творцу, своей самоотверженной любви; тогда бы не было подвигов борьбы, заслуг и нетленных венцов за победу, не было бы блаженства вечного, которое есть награда за верность и преданность Богу и вечное упокоение после трудов и подвигов земного странствования».
1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
4 И сказал змей жене: нет, не умрете,
5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
11 И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?
12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
20 И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.
21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
Для верующего человека несомненно, что повествование книги Бытия о грехопадении прародителей не миф, не аллегория, а действительное событие. Грех проник в человеческую природу под влиянием диавола, воспользовавшегося обличьем змея как орудием искушения и прельстившего Еву к преступлению заповеди. Но змий-диавол был только внешней причиной падения первых людей. Действуя хитростью, лестью, смущением, он обольщал, склоняя Еву ко греху, но силой принудить ее к этому не мог. Внутренняя и главная причина происхождения греха заключалась в самих прародителях. Склонившись на обольщение дьявола, они злоупотребили своей свободной волей, и сделали это не по необходимости и не по принуждению, а единственно по своему собственному решению, почему и понесли на себе всю тяжесть последствий нарушения заповеди.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) так объясняет причину грехопадения Адама и Евы: «Удивительно, с какой легкостью совершилось падение праотцов! Не было ли оно предуготовлено их внутренним расположением? Не оставили ли они в раю созерцание Творца, не предались ли созерцанию твари и своего собственного изящества? Прекрасно созерцание себя и твари, но в Боге и из Бога; с устранением Бога оно гибельно, ведет к превозношению и самомнению… Праотцы, оказав преслушание Богу и склонившись в послушание диаволу, сами себя сделали чуждыми Бога, сами себя сделали рабами диавола. Обещанная им смерть за преступление заповеди тотчас объяла их. Дух Святой, обитавший в них, отступил от них. Они были представлены собственному естеству, зараженному духовным ядом. Этот яд сообщил человеческому естеству диавол из своего растленного естества, преисполненного греха и смерти»4
Свт. Игнатий
(Брянчанинов
). Слово о человеке.
Если же мы обратимся к писаниям св. отцов, то заметим важную для нас мысль. Главное «жало смерти», начало болезни – в том, что за преступление заповеди, в силу этого преступления, пресеклось живое общение с Богом, Дух Святой отступил от праотцов. Все остальное, все разного вида повреждения человеческой природы, скорби и страдания идут уже вслед за этим. И начало всех страстей – в отступлении от человека Духа Святого.
Кто внимательно углубляется в самого себя, тот не может не согласиться с апостолом Павлом:
Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. (Рим. 7, 18–23).
Наблюдательный человек не может не признать следующих фактов: а) в нас постоянно происходит борьба между духом и плотью, разумом и страстями, стремлением к добру и влечением к злу; б) в этой борьбе победа почти всегда остается на стороне последних: плоть преобладает над духом, страсти господствуют над разумом, влечения ко злу пересиливают стремления к добру; мы любим добро по своей природе, желаем его, но чтобы творить добро, не находим в себе сил; мы зла не любим по природе, а между тем влечемся к нему неудержимо; в) навык ко всему доброму и святому приобретается нами с великими усилиями и очень медленно; а навык ко злу приобретается без малейших усилий и очень быстро; г) отвыкнуть от какого-либо порока, победить в себе какую-либо страсть, иногда самую незначительную, для нас очень тяжело; а чтобы снова впасть в грех, изменить добродетели, которую мы приобрели с большим трудом, – для этого часто достаточно какого-нибудь слабого искушения.
Вот это преобладание зла над добром в человеке замечаем и мы, и замечали все, жившие до нас.
Но философские, биологические, психологические объяснения, какие придумывают для этого явления люди, не могут быть исчерпывающими и столь удовлетворительными, как то, которое предлагает Божественное Откровение своим учением о наследственном прародительском грехе.
Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:
Можно искать по нескольким полям одновременно:
Логически операторы
По умолчанию используется оператор AND
.
Оператор AND
означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:
исследование разработка
Оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:
исследование OR разработка
Оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:
исследование NOT разработка
Тип поиска
При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.
По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.
Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак "доллар":
$ исследование $ развития
Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:
исследование*
Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:
" исследование и разработка"
Поиск по синонимам
Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку "#
" перед словом или перед выражением в скобках.
В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.
В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.
Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.
# исследование
Группировка
Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.
Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:
Приблизительный поиск слова
Для приблизительного поиска нужно поставить тильду "~ " в конце слова из фразы. Например:
бром~
При поиске будут найдены такие слова, как "бром", "ром", "пром" и т.д.
Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:
бром~1
По умолчанию допускается 2 правки.
Критерий близости
Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду "~ " в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:
" исследование разработка"~2
Релевантность выражений
Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак "^
" в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным.
Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение.
Например, в данном выражении слово "исследование" в четыре раза релевантнее слова "разработка":
исследование^4 разработка
По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения - положительное вещественное число.
Поиск в интервале
Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO
.
Будет произведена лексикографическая сортировка.
Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.
Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.
Двадцать с лишним лет назад, когда мы познакомились, ее звали Ира Зай-цева, она закончила факультет журналистики МГУ, увлекалась живописью, была кандидатом в мастера спорта по волейболу, много и жадно читала и написала дипломную работу под названием "Пространство и время в произведениях Ф.М. Достоевского". Несомненные и разнообразные дарования могли привести ее в газету, к холсту и краскам, в большой спорт или науку. Она выбрала нечто со-вершенно иное – монашество. Теперь ее имя Ксения, она игумения Свято-Тро-ицкого Ново-Голутвина монастыря в Коломне. Возникающий в связи с этим у большинства вопрос "а почему? а что ее заставило?" и вместе с вопросом не-сколько сколь обязательных, столь и банальных догадок, не имеют под собой ровным счетом никаких оснований. Ибо монашество – призвание, удел избранных, путь для тех, кто помечен некоей особой метой и наделен редчайшим стремлением к постоянному предстоянию перед Богом. Избрание и призвание вырывают человека из паутины причинно-следственных связей, сообщая ему непреходящую до последнего вздоха радость от жизни на земле и уверенность в бесконечности посмертного бытия. Вместе с тем монастырские стены не избав-ляют человеческую плоть от томлений, душу – от искушений, а дух – от сомне-ний. Монашество – это еще и постоянная борьба с собой; это неустанная пахота самого себя, и день за днем прокладываемая в глухом лесу нашего "Я" дорога к Богу.
Таким образом, я уже почти сказал, о чем написала игумения Ксения в своей книге "О пути в монастырь".
В монастыре существует обычай так называемого откровения помыслов, обычай, на целительную пользу которого в деле воспитания души и "природне-ния" ее ко Христу указывали святые отцы. Откровения помыслов – это по-стоянная практика Ново-Голутвина монастыря; это очередь насельниц, не-сущих игумении списочки своих убегающих в мир мечтаний, признания в несо-гласиях с сестрами по монашескому житью-бытью, недоумения, обиды, сомне-ния и укоры – в том числе и самой настоятельнице. "Плесень греховности , - с умудренностью старшей не столько по годам, сколько по духовному опыту пишет м. Ксения, - нарастает всякий раз, когда отпускаются вожжи серьезной внима-тельной душевной работы…" .
Глубочайшее, до дна души, откровение, в переживании которого отчасти и заключается непрерывное восхождение к Небу, помогает снять накопившуюся плесень.
Книга игумении и есть в немалой степени откровение ее помыслов. Конечно, за пределами отданного на читательский суд повествования осталось нечто со-кровенное, что она может доверить лишь своему духовнику. Но, тем не менее, она и для нас говорит многое, подчас очень многое, не играет в таинственное молчание, не кладет на уста печать затворницы и не глядит на грешный мир от-решенным от всего взором. Ксения открыта как человек и открыта как автор.
Она росла любимым чадом в достойной советской семье, где было все, кроме Бога. Но, вспоминает игумения, "с детства было ощущение, что мне чего-то сильно не хватает, что со мной должен быть Кто-то, Кто мгновенно может мне помочь" . Ее, как она пишет, постоянно тянуло к небу. Рассудив, что тому, кто летает, небо ближе, она поступила в авиационный институт. Полтора года спустя она призналась себе в своей ошибке и, оставив позади "груду чер-тежей", ушла в гуманитарии – на факультет журналистики. Великая литература открылась ей в потрясающей мучительности своих размышлений о смысле жизни, бытии Бога, о вере и неверии, грехе и праведности, преступлении и нака-зании. "Если Бога нет, то все позволено!" – восклицал Федор Михайлович Достоев-ский, ставший писателем и мыслителем ее жизни. Но страна Советов по-преж-нему жила в слепой уверенности, что религия – "опиум народа". Разрыв между страстными поисками человеческого духа и человеческим же болотом, между несомненной, как она пишет, "раненностью" мира вопрошанием о Боге, и глу-боким равнодушием к этому главнейшему вопросу на манер советской киноко-медии: "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – какая разница", ме-жду священной тревогой и бессмысленным спокойствием – этот разрыв поражал ей сердце и будоражил ум.
Тогда еще немногим была открыта трагическая история Церкви в России. Еще далеко было до прославления сонма Новомуче-ников и исповедников, еще не перевернута была последняя страница написан-ной кровью Книги лютой ненависти к вере и беспримерной – до смертного вздоха – верности Христу. Ложь еще царствовала – но правда уже поднималась.
Признаем, что Ксении повезло. В глухую советскую пору беззаветный поиск Бога и бесстрашные вопросы к себе и к миру прямым ходом привели бы ее в ка-кую-нибудь Потьму или на другой из бесчисленных островов раскинувшегося по всему Отечеству архипелага ГУЛага. Она приняла бы узы бестрепетно, как воз-можность страданиями запечатлеть свою верность Христу, - но судьба, по сча-стью, распорядилась иначе. Коммунистическое царство было исчислено, насту-пал перелом эпох, и Ксения, тогда еще Ира, смогла отправиться сначала трудницей в Псково-Печорский монастырь, а затем в советскую еще Эстонию, в Пюхтицкий Успенский женский монастырь. Человек великого сердца, пюхтицкая игумения Варвара (Трофимова), увидела и ее стремление к монашескому подвигу, и еще не завершившуюся в ней трудную духовную работу. Именно в Пюхтицах она, по собственному признанию, пережила "свое одиночество как боль за весь род, не знающий Бога" . Это ее выстраданная мысль – о немыслимой тяжести, которой отягощается душа родными по плоти, но не пришедшими к Богу людьми.
"Это какая-то метафизическая скорбь , - пишет Ксения, - за то, что в роду ты один пред Богом, а они все – вне" .
Отсюда самые, может быть, трогательные страницы книги – о дедушке, Ми-хаиле Павловиче Зайцеве, ученом и коммунисте, ушедшим без веры, "в стра-дание" и, по ее убеждению и какому-то неподвластному разуму знанию, много намучивше-гося там, пока внучка своей непрестанной молитвой не вымолила ему иной, куда более радостной участи далеко за пределами земных дней. Об отце, Юрии Михайловиче, яростно спорившем с воцерковленной дочкой и кри-чавшем ей: "Вас единицы, а нас – миллионы" , однако мало-помалу сбрасывав-шем с себя атеистические одежды и незадолго до кончины облачившемся в одежды другие – монашеские. Отец принял монашеский постриг с именем Ки-рилл, мама стала монахиней Марией, а она, Ксения, - "монашеской дочкой". Ее убежденная вера стала для родителей доводом необоримой правоты и силы, а она от счастливой полноты сердца могла воскликнуть: "Теперь я не одна, а с возрождающимся родом своим!"
Игумения вовсе не стремится убедить нас бросить все заботы, детишек, жен, мужей, государеву службу и последовать за ней – хотя отречение от мира, по ее словам, это не утрата, а необыкновенный, космической высоты взлет. Кому по силам вместить – пусть вмещает; но монастыри, быть может, нужны в том числе и для того, чтобы в соседстве с ними полнота человеческого бытия чуть стыдилась самой себя и становилась несколько умеренней в своих жадных стремлениях. Что же до самой Ксении, то ей все было ясно в ее судьбе. Зов прозвучал. И книга, собственно, посвящена пути: вот, было дивное время послушничества в Пюхтице, было крошечное местечко Ахкерпи, высоко в горах, на границе Грузии и Армении, куда по благословению своего духовного отца она отправилась помо-гать живущим там стареньким монахиням; подмосковное село Татаринцево, в храме которого она была уставщицей; был тяжкий, но радостный труд восста-новления Хотьковского монастыря, места вечного упокоения родителей преподобного Сергия Радонежского, и величайшее стремление возродить там монашескую жизнь; была, наконец, Коломна, Свято-Троицкий Ново-Голутвин мо-настырь, поднимать который ее направил правящий архиерей. От тогдашнего вида монастырских построек у кого угодно могли опуститься руки. "Немного растерявшись, я села в тени большого дерева и открыла Евангелие на сло-вах: - Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам Царство" .
За два десятка лет срам и мерзость запустения превратились если не в Эдем, то, по крайней мере, в некое подобие его, где легким быстрым шагом про-летают монахини, веселые, с чистыми лицами и сияющими гла-зами; где прожи-вает верблюд Синай, а в питомнике басовито лают огромные псы – туркменские алабаи; где жителей Коломны ради Христа лечат в медицинском центре; где из-дают газеты – педагогическую, агрономическую, медицинскую; где по своему ка-налу день и ночь вещает радио, неся высокую культуру народу ближней округи; где…
Где неустанно трудится душа.
И ее, Ксении, путь – это бесконечная, изнурительная, непрекращающаяся духовная работа. Ибо ей надо было отгранить из себя – человека, другую себя – мона-хиню. Об этом она и пишет.
Александр Нежный,
для "Портала-Credo.Ru"