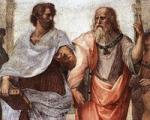Чтение л кассиль твои защитники. Конспект НОД по речевому развитию
Эти рассказы Лев Кассиль написал в годы Великой Отечественной войны. За каждым из них стоят реальная история - о мужестве и героизме русского народа на фронте и в тылу.
Лев Кассиль «Рассказ об отсутствующем»
Когда в большом зале штаба фронта адъютант командующего, заглянув в список награждённых, назвал очередную фамилию, в одном из задних рядов поднялся невысокий человек. Кожа на его обострившихся скулах была желтоватой и прозрачной, что наблюдается обычно у людей, долго пролежавших в постели. Припадая на левую ногу, он шёл к столу. Командующий сделал короткий шаг навстречу ему, вручил орден, крепко пожал награждённому руку, поздравил и протянул орденскую коробку.
Награждённый, выпрямившись, бережно принял в руки орден и коробку. Он отрывисто поблагодарил, чётко повернулся, как в строю, хотя ему мешала раненая нога. Секунду он стоял в нерешительности, поглядывая то на орден, лежавший у него на ладони, то на товарищей по славе, собравшихся тут. Потом снова выпрямился:
— Разрешите обратиться?
— Пожалуйста.
— Товарищ командующий... И вот вы, товарищи, — заговорил прерывающимся голосом награждённый, и все почувствовали, что человек очень взволнован. — Дозвольте сказать слово. Вот в этот момент моей жизни, когда я принял великую награду, хочу я высказать вам о том, кто должен бы стоять здесь, рядом со мной, кто, может быть, больше меня эту великую награду заслужил и своей молодой жизни не пощадил ради нашей воинской победы.
Он протянул к сидящим в зале руку, на ладони которой поблёскивал золотой ободок ордена, и обвёл зал просительными глазами.
— Дозвольте мне, товарищи, свой долг выполнить перед тем, кого тут нет сейчас со мной.
— Говорите, — сказал командующий.
— Просим! — откликнулись в зале.
И тогда он рассказал.
— Вы, наверное, слышали, товарищи, — так начал он, — какое у нас создалось положение в районе Р. Нам тогда пришлось отойти, а наша часть прикрывала отход. И тут нас немцы отсекли от своих. Куда ни подадимся, всюду нарываемся на огонь. Бьют по нас немцы из миномётов, долбят лесок, где мы укрылись, из гаубиц, а опушку прочёсывают автоматами. Время истекло, по часам выходит, что наши уже закрепились на новом рубеже, сил противника мы оттянули на себя достаточно, пора бы и до дому: время на соединение оттягиваться. А пробиться, видим, ни в какую нельзя. И здесь оставаться дольше нет никакой возможности. Нащупал нас немец, зажал в лесу, почуял, что наших тут горсточка всего-навсего осталась, и берёт нас своими клещами за горло. Вывод ясен: надо пробиваться окольным путём.
А где он, этот окольный путь? Куда направление выбрать? И командир наш, лейтенант Буторин Андрей Петрович, говорит: «Без разведки предварительной тут ничего не получится. Надо порыскать да пощупать, где у них щёлка имеется. Если найдём, проскочим». Я, значит, сразу вызвался. «Дозвольте, — говорю, — мне попробовать, товарищ лейтенант?» Внимательно посмотрел он на меня. Тут уже не в порядке рассказа, а, так сказать, сбоку, должен объяснить, что мы с Андреем из одной деревни — кореши. Сколько раз на рыбалку ездили на Исеть! Потом оба вместе на медеплавильном работали в Ревде. Одним словом, друзья-товарищи. Посмотрел он на меня внимательно, нахмурился. «Хорошо, — говорит, — товарищ Задохтин, отправляйтесь. Задание вам ясно?»
Вывел он меня на дорогу, оглянулся, схватил за руку. «Ну, Коля, — говорит, — давай простимся с тобой на всякий случай. Дело, сам понимаешь, смертельное. Но раз вызвался, то отказать тебе не смею. Выручай, Коля... Мы тут больше двух часов не продержимся. Потери чересчур большие...» — «Ладно, — говорю, — Андрей, мы с тобой не в первый раз в такой оборот угодили. Через часок жди меня. Я там высмотрю, что надо. Ну а уж если не вернусь, кланяйся там нашим, на Урале...»
И вот пополз я, хоронюсь по-за деревьями. Попробовал в одну сторону — нет, не пробиться: густым огнём немцы по тому участку кроют. Пополз в обратную сторону. Там на краю лесочка овраг был, буерак такой, довольно глубоко промытый. А на той стороне у буерака — кустарник, и за ним — дорога, поле открытое. Спустился я в овраг, решил к кустикам подобраться и сквозь них высмотреть, что в поле делается. Стал я карабкаться по глине наверх, вдруг замечаю, над самой моей головой две босые пятки торчат. Пригляделся, вижу: ступни маленькие, на подошвах грязь присохла и отваливается, как штукатурка, пальцы тоже грязные, поцарапанные, а мизинчик на левой ноге синей тряпочкой перевязан — видно, пострадал где-то... Долго я глядел на эти пятки, на пальцы, которые беспокойно шевелились над моей головой. И вдруг, сам не знаю почему, потянуло меня щекотнуть эти пятки... Даже и объяснить вам не могу. А вот подмывает и подмывает... Взял я колючую былинку да и покорябал ею легонько одну из пяток. Разом исчезли обе ноги в кустах, и на том месте, где торчали из ветвей пятки, появилась голова. Смешная такая, глаза перепуганные, безбровые, волосы лохматые, выгоревшие, а нос весь в веснушках.
— Ты что тут? — говорю я.
— Я, — говорит, — корову ищу. Вы не видели, дядя? Маришкой зовут. Сама белая, а на боке чёрное. Один рог вниз торчит, а другого вовсе нет... Только вы, дядя, не верьте... Это я всё вру... пробую так. Дядя, — говорит, — вы от наших отбились?
— А это кто такие ваши? — спрашиваю.
— Ясно кто — Красная Армия... Только наши вчера за реку ушли. А вы, дядя, зачем тут? Вас немцы зацапают.
— А ну, иди сюда, — говорю. — Расскажи, что тут, в твоей местности, делается.
Голова исчезла, опять появилась нога, а ко мне по глиняному склону на дно оврага, как на салазках, пятками вперёд, съехал мальчонка лет тринадцати.
— Дядя, — зашептал он, — вы скорее отсюда давайте куда-нибудь. Тут немцы. У них вон у того леса четыре пушки стоят, а здесь сбоку миномёты ихние установлены. Тут через дорогу никакого ходу нету.
— И откуда, — говорю, — ты всё это знаешь?
— Как, — говорит, — откуда? Даром, что ли, с утра наблюдаю?
— Для чего же наблюдаешь?
— Пригодится в жизни, мало ль что...
Стал я его расспрашивать, и малец рассказал мне про всю обстановку. Выяснил я, что овраг идёт по лесу далеко и по дну его можно будет вывести наших из зоны огня. Мальчишка вызвался проводить нас. Только мы стали выбираться из оврага в лес, как вдруг засвистело в воздухе, завыло и раздался такой треск, словно вокруг половину деревьев разом на тысячи сухих щепок раскололо. Это немецкая мина угодила прямо в овраг и рванула землю около нас. Темно стало у меня в глазах. Потом я высвободил голову из-под насыпавшейся на меня земли, огляделся: где, думаю, мой маленький товарищ? Вижу, медленно приподымает он свою кудлатую голову от земли, начинает выковыривать пальцем глину из ушей, изо рта, из носа.
— Вот это так дало! — говорит. — Попало нам, дядя, с вами, как богатым... Ой, дядя, — говорит, — погодите! Да вы ж раненый.
Хотел я подняться, а ног не чую. И вижу: из разорванного сапога кровь плывёт. А мальчишка вдруг прислушался, вскарабкался к кустам, выглянул на дорогу, скатился опять вниз и шепчет:
— Дядя, — говорит, — сюда немцы идут. Офицер впереди. Честное слово! Давайте скорее отсюда. Эх ты, как вас сильно...
Попробовал я шевельнуться, а к ногам словно по десять пудов к каждой привязано. Не вылезти мне из оврага. Тянет меня вниз, назад...
— Эх, дядя, дядя, — говорит мой дружок и сам чуть не плачет, — ну, тогда лежите здесь, дядя, чтоб вас не слыхать, не видать. А я им сейчас глаза отведу, а потом вернусь, после...
Побледнел он так, что веснушек ещё больше стало, а глаза у самого блестят. «Что он такое задумал?» — соображаю я. Хотел было его удержать, схватил за пятку, да куда там! Только мелькнули над моей головой его ноги с растопыренными чумазыми пальцами — на мизинчике синяя тряпочка, как сейчас вижу. Лежу я и прислушиваюсь. Вдруг слышу: «Стоять!.. Стоять! Не ходить дальше!»
Заскрипели над моей головой тяжёлые сапоги, я расслышал, как немец спросил:
— Ты что такое тут делал?
— Я, дяденька, корову ищу, — донёсся до меня голос моего дружка, — хорошая такая корова, сама белая, а на боке чёрное, один рог вниз торчит, а другого вовсе нет, Маришкой зовут. Вы не видели?
— Какая такая корова? Ты, я вижу, хочешь болтать мне глупости. Иди сюда близко. Ты что такое лазал тут уж очень долго, я тебя видел, как ты лазал.
— Дяденька, я корову ищу... — стал опять плаксиво тянуть мой мальчонка. И внезапно по дороге чётко застучали его лёгкие босые пятки.
— Стоять! Куда ты смел? Назад! Буду стрелять! — закричал немец.
Над моей головой забухали тяжёлые, кованые сапоги. Потом раздался выстрел. Я понял: дружок мой нарочно бросился бежать в сторону от оврага, чтобы отвлечь немцев от меня. Я прислушался, задыхаясь. Снова ударил выстрел. И услышал я далёкий, слабый вскрик. Потом стало очень тихо... Я как припадочный бился. Я зубами грыз землю, чтобы не закричать, я всей грудью на свои руки навалился, чтобы не дать им схватиться за оружие и не ударить по фашистам. А ведь нельзя мне было себя обнаруживать. Надо выполнить задание до конца. Погибнут без меня наши. Не выберутся.
Опираясь на локти, цепляясь за ветви, пополз я. После уже ничего не помню. Помню только: когда открыл глаза, увидел над собой совсем близко лицо Андрея...
Ну вот, так мы и выбрались через тот овраг из лесу.
Он остановился, передохнул и медленно обвёл глазами весь зал.
— Вот, товарищи, кому я жизнью своей обязан, кто нашу часть вызволить из беды помог. Понятно, стоять бы ему тут, у этого стола. Да вот не вышло. И есть у меня ещё одна просьба к вам... Почтим, товарищи, память дружка моего безвестного, героя безымянного... Вот даже и как звать его, спросить не успел...
И в большом зале тихо поднялись лётчики, танкисты, моряки, генералы, гвардейцы — люди славных боёв, герои жестоких битв, поднялись, чтобы почтить память маленького, никому не ведомого героя, имени которого никто не знал. Молча стояли понурившиеся люди в зале, и каждый по-своему видел перед собой кудлатого мальчонку, веснушчатого и голопятого, с синей замурзанной тряпочкой на босой ноге...
Лев Кассиль «Линия связи»
Памяти сержанта Новикова
Лишь несколько кратких информационных строк было напечатано в газетах об этом. Я не стану повторять их вам, потому что все, кто читал это сообщение, запомнили его навсегда. Нам не известны подробности, мы не знаем, как жил человек, совершивший этот подвиг. Мы знаем только, как кончилась его жизнь. Товарищам его в лихорадочной спешке боя некогда было записывать все обстоятельства того дня. Придёт ещё время, когда героя воспоют в балладах, вдохновенные страницы будут охранять бессмертие и славу этого поступка. Но каждый из нас, прочитавших коротенькое, скупое сообщение о человеке и его подвиге, захотел сейчас же, ни на минуту не откладывая, ничего не дожидаясь, представить, как всё это свершилось... Пусть меня поправят потом те, кто участвовал в этом бою, может быть, я не совсем точно представляю себе обстановку или прошёл мимо каких-то деталей, а что-то прибавил от себя, но я расскажу обо всём так, как увидело поступок этого человека моё воображение, взволнованное пятистрочной газетной заметкой.
Я увидел просторную снежную равнину, белые холмы и редкие перелески, сквозь которые, шурша о ломкие стебли, мчался морозный ветер. Я расслышал надсадный и охрипший голос штабного телефониста, который, ожесточённо вертя рукоятку коммутатора и нажимая кнопки, тщетно вызывал часть, занимавшую отдалённый рубеж. Враг окружал эту часть. Надо было срочно связаться с ней, сообщить о начавшемся обходном движении противника, передать с командного пункта приказ о занятии другого рубежа, иначе — гибель... Пробраться туда было невозможно. На пространстве, которое отделяло командный пункт от ушедшей далеко вперёд части, сугробы лопались, словно огромные белые пузыри, и вся равнина пенилась, как пенится и бурлит взбугрённая поверхность закипевшего молока.
Немецкие миномёты били по всей равнине, взметая снег вместе с комьями земли. Вчера ночью через эту смертную зону связисты проложили кабель. Командный пункт, следя за развитием боя, слал по этому проводу указания, приказы и получал ответные сообщения о том, как идёт операция. Но вот сейчас, когда требовалось немедленно изменить обстановку и отвести передовую часть на другой рубеж, связь внезапно прекратилась. Напрасно бился над своим аппаратом, припадая ртом к трубке, телефонист:
— Двенадцатая!.. Двенадцатая!.. Ф-фу... — Он дул в трубку. — Арина! Арина!.. Я — Сорока!.. Отвечайте... Отвечайте!.. Двенадцать восемь дробь три!.. Петя! Петя!.. Ты меня слышишь? Дай отзыв, Петя!.. Двенадцатая! Я — Сорока!.. Я — Сорока! Арина, вы слышите нас? Арина!..
Связи не было.
— Обрыв, — сказал телефонист.
И вот тогда человек, который только вчера под огнём прополз всю равнину, хоронясь за сугробами, переползая через холмы, зарываясь в снег и волоча за собой телефонный кабель, человек, о котором мы прочли потом в газетной заметке, поднялся, запахнул белый халат, взял винтовку, сумку с инструментами и сказал очень просто:
— Я пошёл. Обрыв. Ясно. Разрешите?
Я не знаю, что говорили ему товарищи, какими словами напутствовал его командир. Все понимали, на что решился человек, отправляющийся в проклятую зону...
Провод шёл сквозь разрозненные ёлочки и редкие кусты. Вьюга звенела в осоке над замёрзшими болотцами. Человек полз. Немцы, должно быть, вскоре заметили его. Маленькие вихри от пулемётных очередей, курясь, затанцевали хороводом вокруг. Снежные смерчи разрывов подбирались к связисту, как косматые призраки, и, склоняясь над ним, таяли в воздухе. Его обдавало снежным прахом. Горячие осколки мин противно взвизгивали над самой головой, шевеля взмокшие волосы, вылезшие из-под капюшона, и, шипя, плавили снег совсем рядом.
Он не слышал боли, но почувствовал, должно быть, страшное онемение в правом боку и, оглянувшись, увидел, что за ним по снегу тянется розовый след. Больше он не оглядывался. Метров через триста он нащупал среди вывороченных обледенелых комьев земли колючий конец провода. Здесь прерывалась линия. Близко упавшая мина порвала провод и далеко в сторону отбросила другой конец кабеля. Ложбинка эта вся простреливалась миномётами. Но надо было отыскать другой конец оборванного провода, проползти до него, снова срастить разомкнутую линию.
Грохнуло и завыло совсем близко. Стопудовая боль обрушилась на человека, придавила его к земле. Человек, отплёвываясь, выбрался из- под навалившихся на него комьев, повёл плечами. Но боль не стряхивалась, она продолжала прижимать человека к земле. Человек чувствовал, что на него наваливается удушливая тяжесть. Он отполз немного, и, наверное, ему показалось, что там, где он лежал минуту назад, на пропитанном кровью снегу, осталось всё, что было в нём живого, а он двигается уже отдельно от самого себя. Но как одержимый он карабкался дальше по склону холма. Он помнил только одно: надо отыскать висящий где-то там, в кустах, конец провода, нужно добраться до него, уцепиться, подтянуть, связать. И он нашёл оборванный провод. Два раза падал человек, прежде чем смог приподняться. Что-то снова жгуче стегнуло его по груди, он повалился, но опять привстал и схватился за провод. И тут он увидел, что немцы приближаются. Он не мог отстреливаться: руки его были заняты... Он стал тянуть проволоку на себя, отползая назад, но кабель запутался в кустах. Тогда связист стал подтягивать другой конец. Дышать ему становилось всё труднее и труднее. Он спешил. Пальцы его коченели...
И вот он лежит неловко, боком на снегу и держит в раскинутых, костенеющих руках концы оборванной линии. Он силится сблизить руки, свести концы провода вместе. Он напрягает мышцы до судорог. Смертная обида томит его. Она горше боли и сильнее страха... Всего лишь несколько сантиметров разделяют теперь концы провода. Отсюда к переднему краю обороны, где ожидают сообщения отрезанные товарищи, идёт провод... И назад, к командному пункту, тянется он. И надрываются до хрипоты телефонисты... А спасительные слова помощи не могут пробиться через эти несколько сантиметров проклятого обрыва! Неужели не хватит жизни, не будет уже времени соединить концы провода? Человек в тоске грызёт снег зубами. Он силится встать, опираясь на локти. Потом он зубами зажимает один конец кабеля и в исступлённом усилии, перехватив обеими руками другой провод, подтаскивает его ко рту. Теперь не хватает не больше сантиметра. Человек уже ничего не видит. Искристая тьма выжигает ему глаза. Он последним рывком дёргает провод и успевает закусить его, до боли, до хруста сжимая челюсти. Он чувствует знакомый кисловато-солёный вкус и лёгкое покалывание языка. Есть ток! И, нашарив винтовку помертвевшими, но теперь свободными руками, он валится лицом в снег, неистово, всем остатком своих сил стискивая зубы. Только бы не разжать!.. Немцы, осмелев, с криком набегают на него. Но опять он наскрёб в себе остатки жизни, достаточные, чтобы приподняться в последний раз и выпустить в близко сунувшихся врагов всю обойму... А там, на командном пункте, просиявший телефонист кричит в трубку:
— Да, да! Слышу! Арина? Я — Сорока! Петя, дорогой! Принимай: номер восемь по двенадцатому.
Человек не вернулся обратно. Мёртвый, он остался в строю, на линии. Он продолжал быть проводником для живых. Навсегда онемел его рот. Но, пробиваясь слабым током сквозь стиснутые его зубы, из конца в конец поля сражения неслись слова, от которых зависели жизни сотен людей и результат боя. Уже отомкнутый от самой жизни, он всё ещё был включён в её цепь. Смерть заморозила его сердце, оборвала ток крови в оледеневших сосудах. Но яростная предсмертная воля человека торжествовала в живой связи людей, которым он остался верен и мёртвый.
Когда в конце боя передовая часть, получив нужные указания, ударила немцам во фланг и ушла от окружения, связисты, сматывая кабель, наткнулись на человека, полузанесённого позёмкой. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в снег. В руке его была винтовка, и окоченевший палец застыл на спуске. Обойма была пуста. А поблизости в снегу нашли четырёх убитых немцев. Его приподняли, и за ним, вспарывая белизну сугроба, потащился прикушенный им провод. Тогда поняли, как была восстановлена линия связи во время боя...
Так крепко были стиснуты зубы, зажавшие концы кабеля, что пришлось обрезать провод в углах окоченевшего рта. Иначе не освободить было человека, который и после смерти стойко нёс службу связи. И все вокруг молчали, стиснув зубы от боли, пронявшей сердце, как умеют молчать в горе русские люди, как молчат они, если попадают, обессиленные от ран, в лапы «мёртвоголовых», — наши люди, у которых никакой мукой, никакими пытками не разжать стиснутых зубов, не вырвать ни слова, ни стона, ни закушенного провода.
Лев Кассиль «Зеленая веточка»
На Западном фронте мне пришлось некоторое время жить в землянке техника-интенданта Тарасникова. Он работал в оперативной части штаба гвардейской бригады. Тут же, в землянке, помещалась его канцелярия. Трёхлинейная лампёшка освещала низкий сруб. Пахло свежим тёсом, земляной сыростью и сургучом. Сам Тарасников, невысокий, болезненного вида молодой человек, со смешными рыжими усиками и жёлтым, обкуренным ртом, встретил меня вежливо, но не слишком приветливо.
— Устроитесь вот тут, — сказал он мне, указывая на топчан и тотчас снова склоняясь над своими бумагами. — Сейчас вам подстелят палатку. Надеюсь, моя контора вас не стеснит? Ну и вы, рассчитываю, тоже особенно мешать нам не будете. Условимся так. Присаживайтесь пока.
И я стал жить в подземной канцелярии Тарасникова. Это был очень беспокойный, необычайно дотошный и придирчивый работяга. Целые дни он надписывал и заклеивал пакеты, припечатывал их сургучом, согретым над лампой, рассылал какие-то донесения, принимал бумаги, перечерчивал карты, стучал одним пальцем на заржавленной машинке, тщательно выбивая каждую букву. По вечерам его мучили приступы лихорадки, он глотал акрихин, но лечь в госпиталь категорически отказывался:
— Что вы, что вы! Куда же я уйду? Да тут всё дело без меня станет! Всё на мне и держится. На день мне уйти — так потом год не распутаешься тут...
Поздно ночью, вернувшись с переднего края обороны, засыпая на своём топчане, я всё ещё видел за столом усталое и бледное лицо Тарасникова, освещённое огнём лампы, деликатно, ради меня приспущенным, и укутанное табачным туманом. От глиняной печурки, сложенной в углу, шёл горячий чад. Усталые глаза Тарасникова слезились, но он продолжал надписывать и заклеивать пакеты. Потом он вызывал связного, который дожидался за плащ-палаткой, повешенной у входа в нашу землянку, и я слышал следующий разговор.
— Кто из пятого батальона? — спрашивал Тарасников.
— Я из пятого батальона, — отвечал связной.
— Примите пакет... Вот. Возьмите его в руки. Так. Видите, написано здесь: «Срочно». Следовательно, доставить немедленно. Вручить лично командиру. Понятно? Не будет командира — передадите комиссару. Комиссара не будет — разыщите. Больше никому не передавать. Ясно? Повторите.
— Доставить пакет срочно, — как на уроке, однотонно повторял связной. — Лично командиру, если не будет — комиссару, если не будет — отыскать.
— Правильно. В чём понесёте пакет?
— Да уж обыкновенно... Вот тут, в кармане.
— Покажите ваш карман. — И Тарасников подходил к высокому связному, становился на цыпочки, просовывал руку под плащ-палатку, за пазуху шинели, и проверял, нет ли прорех в кармане. — Так, в порядке. Теперь учтите: пакет секретный. Следовательно, если попадётесь противнику, что будете делать?
— Да что вы, товарищ техник-интендант, зачем же я буду попадаться!
— Попадаться незачем, совершенно верно, но я вас спрашиваю: что будете делать, если попадётесь?
— Да я сроду никогда не попадусь...
— А я вас спрашиваю, если? Так вот, слушайте. Если что, опасность какая, так содержимое съешьте не читая. Конверт разорвать и бросить. Ясно? Повторите.
— В случае опасности конверт разорвать и бросить, а что посерёдке — съесть.
— Правильно. Через сколько времени вручите пакет?
— Да тут минут сорок и идти всего.
— Точнее прошу.
— Да так, товарищ техник-интендант, я считаю, не больше пятидесяти минут пройду.
— Точнее.
— Да через час-то уж наверняка доставлю.
— Так. Заметьте время. — Тарасников щёлкал огромными кондукторскими часами. — Сейчас двадцать три пятьдесят. Значит, обязаны вручить не позднее ноля пятьдесяти минут. Ясно? Можете идти.
И этот диалог повторялся с каждым посыльным, с каждым связным. Покончив со всеми пакетами, Тарасников укладывался. Но и во сне он продолжал учить связных, обижался на кого-то, и часто ночью меня будил его громкий, суховатый, отрывистый голос.
— Как стоите? Вы куда пришли? Это вам не парикмахерская, а канцелярия штаба! — чётко говорил он во сне.
— Почему вошли, не доложившись? Выйдите и войдите ещё раз. Пора научиться порядку. Так. Погодите. Видите: человек ест? Можете обождать, у вас не срочный пакет. Дайте человеку поесть... Распишитесь... Время отправления... Можете идти. Вы свободны...
Я тормошил его, пытаясь разбудить. Он вскакивал, смотрел на меня малоосмысленным взглядом и, снова повалившись на койку, прикрывшись шинелью, мгновенно погружался в свои штабные сны. И опять принимался быстро говорить.
Всё это было не очень приятно. И я уже подумывал, как бы мне перебраться в другую землянку. Но однажды вечером, когда я вернулся в нашу халупку, основательно промокнув под дождём, и сел на корточки перед печкой, чтобы растопить её, Тарасников встал из-за стола и подошёл ко мне.
— Тут, значит, получается так, — сказал он несколько виновато. — Я, видите ли, решил временно не топить печки. Давайте деньков пять воздержимся. А то, знаете, печка угар даёт, и это, видимо, отражается на её росте... Плохо на неё воздействует.
Я, ничего не понимая, смотрел на Тарасникова.
— На чьём росте? На росте печки?
— При чём же тут печка? — обиделся Тарасников. — Я, по-моему, выражаюсь достаточно ясно. Этот самый чад, он, видно, плохо действует... Она совсем расти перестала.
— Да кто расти перестал?
— А вы что же, до сих пор не обратили внимания? — уставившись на меня, с негодованием закричал Тарасников. — А это что? Не видите? — И он с внезапной нежностью поглядел на низкий бревенчатый потолок нашей землянки.
Я привстал, поднял лампу и увидел, что толстый кругляш вяза в потолке пустил зелёный росток. Бледненький и нежный, с зыбкими листочками, он протянулся под потолок. В двух местах его поддерживали белые тесёмочки, приколотые кнопками к потолочине.
— Понимаете? — заговорил Тарасников. — Всё время росла. Такая славная веточка вымахнула. А тут стали мы с вами топить часто, а ей, видно, не нравится. Я вот тут зарубочки делал на бревне, и даты у меня проставлены. Видите, как сперва быстро росла. Иной день по два сантиметра вытягивала. Даю вам честное, благородное слово! А как стали мы с вами чадить тут, вот уже три дня не наблюдаю роста. Так ей и захиреть недолго. Давайте уж воздержимся. И курить бы надо поменьше. Стебелёчек-то нежненький, на него всё влияет. А меня, знаете, интересует: доберётся он до выхода? А? Ведь
так, чертёнок, и тянется поближе к воздуху, где солнце, чует из-под земли.
И мы легли спать в нетопленной, сырой землянке. На другой день я, чтобы снискать расположение Тарасникова, сам уже заговорил с ним о его веточке.
— Ну как, — спросил я, сбрасывая с себя мокрую плащ-палатку, — растёт?
Тарасников выскочил из-за стола, посмотрел мне внимательно в глаза, желая проверить, не смеюсь ли я над ним, но, увидев, что я говорю серьёзно, с тихим восторгом поднял лампу, отвёл её чуточку в сторону, чтобы не закоптить свою веточку, и почти шёпотом сообщил мне:
— Представьте себе, почти на полтора сантиметра вытянулась. Я же говорил, топить не надо. Просто удивительное это явление природы!..
Ночью немцы обрушили на наше расположение массированный артиллерийский огонь. Я проснулся от грохота близких разрывов, выплёвывая землю, которая от сотрясения обильно посыпалась на нас сквозь бревенчатый потолок. Тарасников тоже проснулся и зажёг лампочку. Всё ухало, дрожало и тряслось вокруг нас. Тарасников поставил лампочку на середину стола, откинулся на койке, заложив руки за голову.
— Я так думаю, что большой опасности нет. Не повредит её? Конечно, сотрясение, но тут над нами три наката. Разве уж только прямое попадание. А я её, видите, подвязал. Словно предчувствовал...
Я с интересом поглядел на него.
Он лежал, запрокинув голову на подложенные за затылок руки, и с нежной заботой смотрел на зелёный слабенький росточек, вившийся под потолком. Он просто забыл, видимо, о том, что снаряд может обрушиться на нас самих, разорваться в землянке, похоронить нас заживо под землёй. Нет, он думал только о бледной зелёной веточке, протянувшейся под потолком нашей халупы. Только за неё беспокоился он.
И часто теперь, когда я встречаю на фронте и в тылу взыскательных, очень занятых, суховатых на первый взгляд, малоприветливых как будто людей, я вспоминаю техника-интенданта Тарасникова и его зелёную веточку. Пусть грохочет огонь над головой, пусть промозглая сырость земли проникает в самые кости, всё равно — лишь бы уцелел, лишь бы дотянулся до солнца, до желанного выхода робкий, застенчивый зелёный росток.
И кажется мне, что есть у каждого из нас своя заветная зелёная веточка. Ради неё готовы мы перенести все мытарства и невзгоды военной поры, потому что твёрдо знаем: там, за выходом, завешанным сегодня отсыревшей плащ- палаткой, солнце непременно встретит, согреет и даст новые силы дотянувшейся, нами выращенной и сбережённой ветке нашей.
Абсолютный слух- Лев Кассиль
Абсолютный слух- Лев Кассиль
Сам Перчихин полагал, что, будь у него мало-мальски подходящий голос, он, несомненно, стал бы знаменитейшим певцом. Но голоса у Семена Перчихина не было никакого, даже самого неподходящего. Зато он обладал совершенно феноменальным по остроте слухом. Я еще не встречал человека со столь чутким и точным ухом. Это и определило его военную специальность.
Родом он был из Кронштадта. Вырос в семье коренных балтийцев. Но плавать ему довелось на северных морях, за Полярным кругом. Поразительная острота слуха – он умел распознавать звуки, которые никто, кроме него, не улавливал, – пригодилась Семену Перчихину на флоте. Музыкальная карьера, о которой мечтал он, не получила здесь развития, но зато старшина второй статьи Семен Перчихин стал превосходным гидроакустиком на гвардейской крейсерской подводной лодке, которой командовал Герой Советского Союза Звездин.
Когда подводный корабль уходил в дальнее автономное плавание, тайком, с немыслимой смелостью пробираясь в район, где стояли вражеские суда, связь с внешним миром обрывалась. Нельзя даже было принимать радио, так как чувствительные пеленгаторы, аппараты-искатели, на неприятельских кораблях могли бы поймать слабое излучение в эфир, неустранимое даже тогда, когда радиоаппаратура лодки работает на прием. Лодка выдала бы этим свое место, и тогда поминай как звали…
В таких случаях приходилось подолгу идти в подводном положении. Опасно было даже на мгновение поднять перископ. Единственной связью со всем, что оставалось за железными бортами лодки, были в эти минуты уши Перчихина, с тонкими, причудливо изогнутыми раковинами, сквозь бледную кожу которых просвечивали нежные прожилки, что делало похожим ухо на какой-то экзотический цветок. Перчихин, втиснутый в крохотную каюту, безвылазно сидел у гидроакустических аппаратов и, ущемив голову наушниками, неотрывно слушал море.
Сколько раз предлагал он и мне послушать… Я тоже надевал наушники, слышал гул моря – и он мне ничего не говорил. Но для Перчихина раскрывалась целая книга звуков, неуловимых, ему одному понятных шорохов.
– Как же вы не разбираетесь, вот послушайте, – пояснял он, возвращая мне наушники снова, – пух-пух, пух-пух, редкий такой звук, тяжелый, с придыханием… Это транспорт ползет, солидная посудина. Километра четыре отсюда. А вот хорошо прослушивается стучок, такой переливчатый, металлом отзванивает… Слышите? Это ужо миноносец пошел. А где-то еще ботишка топает – слышите? – движок у него кудахчет.
Но, как я ни напрягал слух, в ушах стоял только ровный, однообразный, легонько звенящий гул. Однако, подняв перископ, мы видели на поверхности моря все, что слышал в глубинах его Семен Перчихин: и большой грузовой корабль в отдалении, и миноносец, конвоировавший его, и маленький рабочий бот, выходящий из гавани.
Море несло в себе тысячи шумов, и каждый из них был ясен и знаком Перчихину. Он легко расшифровал эти звуковые иероглифы, и чуткое ухо его никогда не путало внешних звуков с целым оркестром шумов, шорохов, перезвонов, стуков, которые жили в самой подводной лодке, производились ею и тоже прослушивались через акустические аппараты. Перчихин с волшебной точностью распознавал малейшее движение на своем подводном корабле. Он безошибочно определял, какой механизм действует, каким ходом идет подлодка. Тикание хронометра, посапы-вание помпы – все слышал Перчихин. Он узнавал по звуку командира, комиссара, боцмана. Доходило до того, что Перчихин, не сходя с места, лишь приоткрыв двери своей каютки, кричал коку:
– Эй, в камбузе!.. Миронов, у тебя там кипит чего-то, смотри, чтоб не убежало.
О его необыкновенном слухе уже складывались целые легенды. Моряки охотно преувеличивали удивительные способности своего акустика, а сам Семен Перчихин не слишком стремился разоблачать эти россказни. Он не прочь был иной раз блеснуть своим действительно невероятным по чуткости слухом.
– Ну, Перчихин, что слыхать? – спрашивали его соскучившиеся в долгом и трудном походе подводники.
Перчихин, согнувшись над своими аппаратами, приподняв один наушник и посматривая из-под него на заглянувших к нему товарищей, не спеша докладывал:
– Что слышно? Да всякое слышно. Вот катер пошел километров пять отсюда. На борту кто-то песни поет… Ага! «Любил я очи голубые…» У гитары новый строй, только на одной струне слабина. Эх, тупоухие! Не в тон настроили… А вот сейчас камбала мимо нас проплыла. Определенно камбала. Треска не так ходит, у трещочки звук другой.
– Да будет тебе травить! – смеялись подводники. – Как же это ты рыбу можешь слышать?
– Знаешь, какое ухо у меня поразительное, абсолютный слух, – не сдавался Перчихин. – Я самую тихую тихость чую. Я слово слышу, когда оно еще к тебе на язык только ладится, как присесть… Ты его еще не сказал, может быть, оно у тебя еще только в мозгах шевелится, а я уже его слышу. Вот, например, Костя Миронов смотрит на меня сейчас, и вот он сейчас скажет: «Врешь ты все, травила несчастный!»
– И верно, что травила, – сердился кок.
– Ну, вот я же говорю, что слышал заранее.
Миронов отплевывался, махал рукой и уходил в другой отсек. А Перчихин кричал ему вдогонку:
– Иди, иди, а то у тебя в животе бурчит, это мне на барабанную перепонку действует.
– Эх, – говаривал мне не раз Перчихин, – мне бы с моим слухом оперы на проверку брать, в лесу птицам голоса ставить… А я из-за данных военных условий должен фрицев прослушивать, всю их пакость… Довольно-таки неблагозвучно для моего слуха.
Как-то подводники решили подшутить над Перчихиным. Когда он однажды спускался вниз по скобяному трапу в круглом железном колодце, ведущем на дно лодки, снизу подставили большой мешок. Перчихин, не видя, ступил в него, мешок сразу вздернули кверху, и, только голова Перчихина показалась из люка, края мешка сомкнулись над ней. Мешок крепко завязали. Все молча отскочили в сторону, давясь от смеха, ступая на цыпочках.
– А ну, развязывайте, – послышалось из мешка, в котором барахтался Перчихин, – все равно я же слышу, кто это тут начудил… Миронов, не ходи на цыпочках, ты не балерина, все равно я твою походку знаю. А вон в том углу – это Валяев сопит. Не давись понапрасну, я и так тебя слышу. И Чубенку слышу: у него кишка с кишкой разговаривает. «Перехватил, говорит, хозяин, борща…» А ну, живо развязывайте, а то я сейчас как выну бебут да и распорю мешок к чертям на лапшу!
Пришлось разоблаченным шутникам освобождать Перчихина.
– Ну у тебя же и ухи, – ворчал, выпутывая акустика из мешка, Миронов, – это же не ухи, а форменные звукоуловители.
Замечательный слух Перчихина уже не раз сослужил добрую службу в боевых походах подлодки. Это он первый услышал тяжелый зловещий водяной грохот, исторгаемый могучими винтами германского крейсера. Он тогда помог Звездину точно определить место и курс немецкого корабля. Командир, веря своему акустику, рассчитал дистанцию, угол торпедной атаки, и Перчихин, отстранив наушники, чтобы не быть оглушенным, услышал два тяжких подводных взрыва. Это Звездин нанес двойной торпедный удар и вывел из строя один из лучших кораблей германского флота.
Другой раз, идя на большой глубине, Перчихин расслышал над собой какой-то странный легкий, стрекочущий звук, с трудом отличимый от шумов, которые были «своими», то есть принадлежали самой лодке. И Перчихин доложил командиру, что наверху подводная лодка. Мало того, по непривычному звуку дизелей ухо Перчихина определило, что эта лодка не наша. Командир решил все-таки проверить это и на какую-то долю секунды подвсплыл и показал перископ. Он ясно разглядел крупную немецкую подлодку. Но немцы тоже заметили перископ. Вражеская подлодка стала быстро погружаться и выпустила торпеду по Звездину. Перчихин ясно слышал, как она прошуршала у пего над самой головой, – прошуршала и ушла. И в морской глубине разыгрался смертоубийственный поединок двух подводных лодок. Бой шел вслепую. Противники не видели друг друга. Теперь все зависело от Перчихина. Он не выпускал врага из своего цепкого слуха. На лодке всем было приказано соблюдать полнейшую тишину. Перчихин припал к своим аппаратам, выслушивал море. Но немцы тоже притихли. Часа три длилось это напряженное молчаливое выжидание на глубине, потом у немцев, должно быть, сдали нервы, они пошли еле слышно, самым тихим ходом. Но от ушей Перчихина нельзя было скрыться. Он тотчас же доложил о маневре противника командиру. Звездин вышел на атаку и прямым попаданием торпеды размозжил немецкую подлодку.
Следует добавить, что своей славой всеслышащего человека Перчихин пользовался не только в морских глубинах, но и на берегу… Так он познакомился с хорошенькой Дусей, подавальщицей в столовой подплава.
– Разрешите обратиться, – вкрадчиво произнес он, настигая Дусю недалеко от причала, – чересчур много о вас слышал.
– Зря вы все говорите, ну что такого вы могли про меня слышать? – возразила застенчивая Дуся, польщенная, однако, тем, что на нее обратил внимание прославленный акустик.
– Все слышал. Мне и телефона не требуется – беру на слух, невооруженным ухом. Имею такую способность. Другой и ухом еще не поведет, а я уже внял. Тем более, учтите – акустик я, Перчихин Семен, будем знакомы.
Дуся пользовалась у нас на базе подводных лодок большим успехом. И бедному Перчихину приходилось слышать о ней действительно очень часто и много от конкурирующих с ним товарищей.
– Это прямо вечная чертовня с ней получается, – жаловался мне Перчихин. – Собирался вчера с Дусей этой в ДКФ на кино сходить. Направляюсь, значит, к ней, а она уже идет по пирсу под прикрытием троих этих гавриков с «Гремучего». Идут около нее в пику мне противолодочным зигзагом. Я, конечно, пилоточку поправил, следую в сторонке, хотя веду наблюдение. Не обращаю внимания, хотя видимость полная. Тогда я делаю захождение, ясное дело, подстраиваюсь к ней с левого борта… Но эти, с «Гремучего», следуют за нами. Какая же это прогулка с таким конвоем?
Шансы Перчихина несколько повысились, когда на базе стали готовиться к большому вечеру краснофлотской самодеятельности. Дуся недурно пела. Перчихин сперва намеревался выступить с ней в дуэте, но голос у него был такой, что ему пришлось удовольствоваться лишь ролью аккомпаниатора – он хорошо играл на баяне.
На репетициях он успокаивал Дусю:
– Вы, Дусенька, прежде всего не волнуйтесь во время исполнения.
– Я и не волнуюсь нисколечко…
– Будете еще мне говорить. Что я, не слышу, что ли, даже издали, как в вас сердце так и стрижет… Словно катер-охотник идет. Хотя, возможно, – добавлял он лукаво и трогал себя за гвардейский, только что отпущенный ус, – возможно, это по моей причине у вас в груди движок свой ход ускоряет.
– Больно много вы слышите! – сердилась Дуся.
– Акустика! – И Перчихин разводил руками, словно сам сокрушался, что он наделен таким сверхъестественным даром все слышать.
На лодке уже кто-то сложил песенку: «Идет у них акустика от кустика до кустика…»
Но незадолго до очередного выхода в море Перчяхин пришел ко мне очень расстроенный.
– Надеялся получить «добро», а она мне написала «аз», – сообщил он мне мрачно.
А на языке морских сигналов это означало, что Перчихин рассчитывал на согласие, а получил отказ.
– Что-то у нас с ней все враздрай получается, не вышло нам с ней идти на параллельных курсах. Печальное дело… Или у меня подход к ней неправильный, или она сама меня не с того боку разглядела. Ладно. Как вернемся с похода, возьмусь сначала.
Уже надвигалась ранняя арктическая осень, когда лодка, выйдя в назначенный квадрат моря, пошла на погружение. Неуютная сырость и влажный холодок стали проникать под стеганки. Ярко горели лампочки во всех отсеках. Света было так много, что он казался плотным, распирающим тело лодки изнутри. Мнилось, что именно свет и поддерживает тут жизнь, а потухни он – и вода расплющит лодку, ворвется в нее. Подводники со спокойной деловитостью отбывали трудные часы похода, полные обыденной опасности. Они легко, привычно двигались в тесном пространстве между бесчисленными механизмами, рычагами, рукоятками, циферблатами, где непривычный человек путается, как таракан, попавший в стенные часы.
Поход был серьезным, над головой давно сомкнулись чужие холодные воды, и Перчихин не отрывался от своих аппаратов.
Дальше все было как обычно. Перчихин прослушал шум винтов, определил, что идет крупный транспорт в окружении по крайней мере пяти сторожевых кораблей. Значит, груз шел ценный, если его так охраняли. Стоило рискнуть.
Звездин взглянул на часы. Дело шло к ночи. Пользуясь темнотой, можно было подвсплыть и глянуть через перископ, откуда удобнее атака. Теперь все на лодке были охвачены тем строгим, молчаливым вдохновением, которое дает начинающийся бой. Горизонталыцик Чубенко вел лодку «на ровном киле» под самой поверхностью воды, осторожно перекладывал рули. Звездин поднял перископ, чтобы оглядеться.
– Вести так! – приказал он. – Горизонта мне не замарайте. – Потом торпедисты услышали знакомое: – Носовые… товсь!.. Сейчас я ему вставлю фитиля, – негромко проговорил Звездин, поворачивая перископ. – Залп!
Все это было знакомо подводникам, как и обычная сердитая реплика командира о фитилях; знаком был и тот легкий рывок, который ощутила лодка, освобождаясь от выпущенных торпед, – и все равно каждый раз минуты эти были исполнены волнения, почти непередаваемого. Долгим казалось безмолвное ожидание. И потом глухой продолжительный раскат словно качнул лодку.
– Съел! – сказал Звездин, прислушиваясь, и улыбнулся. – А сейчас дадут нам фитиля…
Он не договорил. Над лодкой, стремительно уходившей в глубину, загрохотало; лодку швырнуло в сторону; мигнуло электричество. Это рвались наверху сброшенные сторожевиками глубинные бомбы. Перчихин давно уже снял наушники, грохот был нестерпимым и мог оглушить акустика. Бомбы сыпались сверху целыми сериями. Метался пузырек воздуха в розовой жидкости дифферентометра. Лампочки тухли и зажигались, так как рубильники выключались от тяжелых толчков. Сто восемьдесят шесть взрывов насчитали подводники. Потом все стихло. Лодка оставалась недвижной. Надо было отстаиваться на глубине. Нельзя было включить двигатель – сверху бы тотчас услышали. Перчихин, снова припав к наушникам, прослушивал поверхность моря. Прошло два часа, прошло четыре часа – целая вечность в неподвижности и молчании. Лодка отстаивалась. Прошло еще три часа. Сверху не доносился ни один звук. Уши Перчихина болели от дикого напряжения, больно ломило голову. Но он не снимал наушников. В лодке становилось душно, кончался воздух. Начинало звенеть в ушах, и с каждой минутой Перчихину становилось все труднее и труднее выслушивать море.
Звездин решил уходить. Они пошли самым малым ходом. Но этого было уже достаточно. Три чудовищных по силе слитных взрыва обрушились на лодку. Потух свет, запахло какой-то едкой кислотой. Люди падали во мраке, цепляясь за механизмы, разбиваясь в кровь.
Очнувшись, лежа в полной темноте, Перчихин позвал:
– Есть кто живой?…
Полное молчание было ему ответом. Он прокричал еще раз свой вопрос. Ни слова, ни звука в ответ. Странная тишина пугала его хуже тьмы. Но вдруг вспыхнул свет. К Перчихину подбегали товарищи. Его подняли.
– Ну как, Сема, ничего, цел? – спрашивали его участливо. – Ты что кричал-то?
– Чего вы все молчите? – заговорил вдруг Перчихин, всматриваясь в лица товарищей и нехорошо озираясь. – Почему тихо так, не слыхать ничего? Стоим, что ли?
– Как – стоим? – заговорили все наперебой. – Порядок. Идем, выбрались. Ты что, не в себе, что ли?
– Какого черта, я спрашиваю, вы в молчанку играете? – закричал пронзительно Перчихин и ударил кулаком в железную переборку. Он прислушался, ударил еще раз изо всей силы и вдруг, поняв все, молча повалился ничком. Из ушей его текла кровь.
Да, он не слышал слов товарищей, не слышал, как напряженно работали двигатели, выводя лодку из опасного места, и только чувствовал, как дрожит металл под ногами. Не слышал он, как зажужжали вентиляторы, и, только жадно вдохнув ароматный, свежий воздух, понял, что лодка поднялась на поверхность. Он не слышал команды «дизель на винт», когда лодка помчалась в надводном положении к родным берегам. Он не слышал на другое утро торжественного условного залпа, который дал Звездин, входя в свою гавань и сообщая о победе. Он не слышал шумных приветствий на пирсе, когда его вынесли товарищи на руках в мир, полный ослепительной свежести и прохладного света, но мир беззвучный, молчаливый и показавшийся Перчихину еще более страшным, чем могильная тишина там, внизу, в подлодке. Он не слышал, как вскрикнула пронзительно на набережной прибежавшая встретить его Дуся, завидя его на носилках. Он ничего не слышал. Только сердце свое слышал он, сердце, которое рвалось от тоски и неумолчной болью отдавалось в пораженных ушах.
В госпитале, где я навестил его в тот же день, врач сказал мне, что у раненого близким взрывом глубинной бомбы повреждены барабанные перепонки, но положение не безнадежное. «Многое зависит от того, сумеет ли Перчихин держать себя в руках, ибо у него, – сказал врач, – наблюдается небольшое сотрясение мозга и поражена нервная система».
Он лежал, откинувшись на подушку, с забинтованной головой. Завидя меня, Перчихин жалко улыбнулся.
Пришел Миронов, сигнальщик Павленко. Перчихин отлично знал морской семафор, и сигнальщик, став перед койкой, бойко выбрасывая вверх и в сторону руки, что-то долго семафорил оглохшему акустику. Перчихин заулыбался.
– Стой, стой, ты пиши не так шибко. Я за тобой не поспеваю. Размахался, словно полькой-мазуркой дирижируешь… Так прийти хочет, говоришь? Ты ей кланяйся, привет передавай, скажи – пусть через пяток дней зайдет, а то у меня уж больно видимость неважная, отшибить может начисто, честное слово.
Через пять дней я пришел к Перчихину вместе с Дусей. Врач с таинственным выражением лица повел нас в палату к раненому. Повязки с головы Перчихина были сняты. Только в ушах еще белела марля. Увидев Дусю, Перчихин покраснел и натянул одеяло до подбородка. Мы молча поздоровались. Дуся тоже залилась краской и, опустив глаза, села в сторонке.
– Вы хоть сядьте поближе к нему, – сказал я, – уж будьте с ним поласковей.
– Да господи, – застеснялась Дуся, – уж я не знаю… Да разве я… Ведь он же сам знает. Ведь я сколько раз Семочке говорила…
– В первый раз слышу, – громко сказал Перчихин, быстро приподнявшись с подушки.
Лев Кассиль
Семь рассказов
ПОЗИЦИЯ ДЯДИ УСТИНА
Маленькая, по окна вросшая в землю изба дяди Устина была крайней с околицы. Все село как бы сползло под гору; только домик дяди Устина утвердился над кручей, глядя покривившимися тусклыми окнами на широкую асфальтовую гладь шоссе, по которому целый день из Москвы и в Москву шли машины.
Я не раз бывал в гостях у радушного и говорливого Устина Егоровича вместе с пионерами из одного подмосковного лагеря. Старик мастерил замечательные луки-самострелы. Тетива на его луках была тройной, скрученной на особый манер. При выстреле лук пел, как гитара, и стрела, окрыленная прилаженными маховыми перышками синицы или жаворонка, не вихлялась в полете и точно попадала в мишень. Луки-самострелы дяди Устина славились во всех окружных лагерях пионеров. И в домике Устина Егоровича всегда было вдосталь свежих цветов, ягод, грибов - то были щедрые дары благодарных лучников.
У дяди Устина было и собственное оружие, столь же старомодное, впрочем, как и деревянные арбалеты, которые он мастерил для ребят. То была старая берданка, с которой дядя Устин выходил на ночное дежурство.
Так жил дядя Устин, ночной караульщик, и на пионерских лагерных стрельбищах звонко пели его скромную славу тугие тетивы, и вонзались в бумажные мишени оперенные стрелы. Так он жил в своей маленькой избушке на крутогоре, читал третий год подряд забытую пионерами книгу о неукротимом путешественнике капитане Гатерасе французского писателя Жюль-Верна, не зная ее выдранного начала и не спеша добраться до конца. А за окошком, у которого он сиживал под вечер, до своего дежурства, по шоссе бежали и бежали машины.
Но этой осенью все изменилось на шоссе. Веселых экскурсантов, которые прежде под выходные дни мчались мимо дяди Устина в нарядных автобусах в сторону знаменитого поля, где когда-то французы почувствовали, что они не смогут одолеть русских, - шумных и любопытных экскурсантов сменили теперь строгие люди, в суровом молчании ехавшие с винтовками на грузовиках или смотревшие с башен двигающихся танков. На шоссе появились красноармейцы-регулировщики. Они стояли там днем и ночью, в жару, в непогоду и в стужу. Красными и желтыми флажками они показывали, куда надо ехать танкистам, куда - артиллеристам, и, показав направление, отдавали честь едущим на Запад.
Война подбиралась все ближе и ближе. Солнце на заходе медленно наливалось кровью, повисая в недоброй дымке. Дядя Устин видел, как косматые взрывы, жилясь, выдирали из охавшей земли деревья с корнем. Немец изо всех сил рвался к Москве. Части Красной Армии разместились в селе и укрепились тут, чтобы не пропускать врага к большой дороге, ведущей на Москву. Дяде Устину пытались втолковать, что ему нужно уйти из села - тут будет большой бой, жестокое дело, а домик у дядюшки Размолова стоит с краю, и удар падет на него.
Но старик уперся.
Я за выслугу своих летов пенсию от государства имею, - твердил дядя Устин, - как я, будучи прежде, работал путевым обходчиком, а теперь, стало быть, по ночной караульной службе. И тут сбоку кирпичный завод. К тому же склады имеются. Я не в законном праве получаюсь, ежли я с места уйду. Меня государство на пенсии держало, стало быть, теперь и оно передо мной свою выслугу лет имеет.
Так и не удалось уговорить упрямого старика. Дяди Устин вернулся к себе во двор, засучил рукава выгоревшей рубашки и взялся за лопату.
Стало быть, тут и будет моя позиция, - промолвил он.
Бойцы и сельские ополченцы всю ночь помогали дяде Устину превращать его избушку в маленькую крепость. Увидев, как готовят противотанковые бутылки, он бросился сам собирать порожнюю посуду.
Эх, мало я по слабости здоровья закладывал, - сокрушался он, - у людей иных под лавкой цельная аптека посуды... И половинки, и четвертинки...
Бой начался на рассвете. Он сотрясал землю за соседним лесом, закрыв дымом и тонкой пылью холодное ноябрьское небо. Внезапно на шоссе появились мчавшиеся во весь свой пьяный дух немецкие мотоциклисты. Они подпрыгивали на кожаных седлах, нажимали на сигналы, вопили вразброд и палили во все стороны наобум Лазаря, как определил со своего чердака дядя Устин. Увидев перед собой стальные рогатки-ежи, закрывшие шоссе, мотоциклисты круто свернули в сторону и, не разбирая дороги, почти не сбавляя скорости, помчались по обочине, скатываясь в канаву и с ходу выбираясь из нее. Едва они поравнялись с косогором, на котором стояла избушка дяди Устина, как сверху под колеса мотоциклов покатились тяжелые бревна, сосновые кругляши. Это дядя Устин незаметно подполз к самому краю обрыва и столкнул вниз припасенные здесь со вчерашнего дня большие стволы сосен. Не успев притормозить, мотоциклисты на полном ходу наскочили на бревна. Они кубарем летели через них, а задние, не в силах остановиться, наезжали на упавших... Бойцы из села открыли огонь из пулеметов. Немцы расползались, как раки, вываленные на кухонный стол из базарной кошелки. Изба дяди Устина тоже не молчала. Среди сухих винтовочных выстрелов можно было расслышать кряжистый дребезг его старой берданки.
Бросив в канаве своих раненых и убитых, немецкие мотоциклисты, сразбега вскочив на круто завернутые машины, помчались назад. Не прошло и 15 минут, как послышалось глухое и тяжкое урчание и, вползая на холмы, торопливо переваливаясь в ложбины, стреляя на ходу, к шоссе ринулись немецкие танки.
До позднего вечера длился бой. Пять раз пытались немцы пробиться на шоссе. Но справа из леса каждый раз выскакивали наши танки, а слева, там, где над шоссе нависал косогор, подступы к дороге охраняли противотанковые орудия, подтянутые сюда командиром части. И десятки бутылок с жидким пламенем сыпались на пытавшиеся проскочить танки с чердака маленькой полуразрушенной будки, на скворешне которой, простреленной в трех местах, продолжал развеваться детский красный флажок. «Да здравствует Первое Мая» - было написано белой клеевой краской на флажке. Может быть, это было и не ко времени, но другого знамени у дяди Устина не нашлось.
Так яростно отбивалась избушка дяди Устина, столько покареженных танков, облитых пламенем, свалилось уже в ближний ров, что немцам показалось, будто тут кроется какой-то очень важный узел нашей обороны, и они подняли в воздух около десятка тяжелых бомбардировщиков.
Когда дядю Устина, оглушенного и ушибленного, вытащили из-под бревен и он открыл, еще слабо разумея, свои глаза, бомбардировщики были уже отогнаны нашими «Мигами», атака танков отбита, а командир части, стоя неподалеку от разваленной избы, что-то строго говорил двоим перепуганно озиравшимся парням; хотя одежда их еще дымилась, оба выглядели задрогшими.
Конспект интегрированной НОД по ОО «Речевое развитие» (художественная литература) с детьми подготовительной группыТема: Твои защитники. Чтение и пересказ рассказа Л. Кассиля «Воздух»
Леготина Валентина Викторовна,
воспитатель высшей категории
МБДОУ ДС ОВ «Аист»
Города Новый Уренгой, ЯНАО
Цель: Продолжать знакомить детей с защитниками Российской армии. Развивать интерес к художественной литературе через рассказ Льва Кассиля «Воздух» из книги «Твои защитники»
Задачи:
Образовательные:
Познакомить детей с рассказом Льва Кассиля «Воздух» из книги «Твои защитники»
Учить понимать содержание произведения.
Развивающие:
Развивать умение отвечать на вопросы, используя сложносочиненные и сложноподчиненные предложения .
Развивать умение пересказывать рассказ с опорой на схемы (совместное пересказывание), выслушивать товарищей, не перебивать, не повторяться.
Воспитывающие:
Воспитывать патриотические чувства, эмоционально-положительное отношение к воинам-защитникам.
Интеграция ОО: * « Познавательное развитие» (Социальное окружение )
Закреплять представление детей о защитниках Российской армии.
*«Речевое развитие» (развитие речи)
Развивать у детей связную речь, память, мышление.
Предварительная работа:
Беседы о Российской армии, о Родине, воинах;
заучивание стихотворений о военных;
рассматривание альбомов, иллюстраций, на изображены рода , боевая техника;
. «Три богатыря»;
чтение былины «Илья Муромец и соловей разбойник»,
рассказов Л. Кассиля из книги о военных «Твои защитники»,
рассказов С.Баруздина «Шёл по улице солдат».
Загадывание загадок.
Ход НОД
Воспитатель: Ребята, я сейчас стою перед вами в военной форме, догадайтесь, о ком мы будем сегодня с вами говорить? (О военных, о защитниках нашей Родины)
В давние - давние времена, в Древней Руси, стояли на страже нашей Родины, очень сильные люди – богатыри. О них народ складывал песни, сказки, былины. В наше время защитницей страны является Российская Армия. Как и раньше, нашу Родину, защищают сильные, смелые мужчины. Наши воины отличаются находчивостью и выдержкой.
Ребята, какой праздник будет отмечать наша страна 23 февраля? (День защитников Отечества)
А как вы думаете, кто такие - защитники Отечества? (Это те, кто охраняет, оберегает, защищает Родину. Это воины, которые предупреждают об опасности. Это солдаты, офицеры, военные матросы, танкисты, десантники …)
- Какими качествами должны обладать защитники? (Они должны быть храбрыми, смелыми, мужественными, сильными, терпеливыми, ловкими, мужественными. Должны быть честными, отважными, закалёнными, выносливыми, дисциплинированными. Должны уметь переносить трудности, много знать, уметь, заниматься спортом, хорошо стрелять, быстро бегать.)
Отгадайте загадки и назовите профессию защитника.
Д/и: «Угадай профессию »
Мчится крепость вся в броне.
Тащит пушку на себе
( Танк, профессия - танкист)
4.Что за птица смелая,
По небу промчалась?
Лишь дорожка белая
От нее осталась.
( Самолет, профессия – летчик)
2.Есть такой большущий дом,
Не стоит на месте он.
Не зайти в него никак,
Ведь бежит он по волнам.
( Корабль, профессия – моряк )
5. Ракеты в воздух запускают,
И пушки громко их палят,
В бою всегда они готовы
Пустить в противника снаряд!
(Артиллеристы)
3.Под водой железный кит,
Днём и ночью кит не спит.
Не до снов тому киту,
Днём и ночью на посту
( Подводная лодка - подводник )
6. Он границу охраняет,
Все умеет он и знает.
Во всех делах солдат отличник
А зовется? (Пограничник )
Ребята, о ком были загадки. ( О военных, охраняющих нашу Родину )
А какие стихотворения вы знаете о военных. Кто из вас хочет прочесть.
Дети читают наизусть стихотворения о военных
Пограничники
На ветвях заснули птицы,
Звезды в небе не горят.
Притаился у границы пограничников отряд.
Пограничники не дремлют у родного рубежа:
Наше море, нашу землю, наше небо сторожат. С. Маршак
Моряк
На мачте наш трехцветный флаг,
На палубе стоит моряк.
И знает что моря страны,
Границы океанов
И днем, и ночью быть должны -
Под бдительной охраной.
Н. Иванова
Танкист
Везде как будто вездеход,
На гусеницах танк пройдет
Ствол орудийный впереди,
Опасно, враг, не подходи!
Танк прочной защищен броней
И сможет встретить бой! Н. Иванова
Десантник
Десантники в минуты
Спускаются с небес.
Распутав парашюты,
Прочешут темный лес,
Овраги, горы и луга.
Найдут опасного врага. Н. Иванова
Спасибо вам ребята
Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с рассказом Льва Кассиля «Воздух» из его книги о военных «Твои защитники»
Л ев Кассиль «ВОЗДУХ!» ( поэтапное чтение с использованием схем )
1. Бывало так. Ночь. Спят люди. Тихо кругом. Но враг не спит.
Высоко в чёрном небе летят фашистские самолёты. Они хотят бросить бомбы на наши дома. Но вокруг города, в лесу и в поле, притаились наши защитники.
День и ночь они на страже. Птица пролетит - и ту услышат. Звезда упадёт - и её заметят.
- Ребята, о чем говорится в тексте? (ответы детей)
( Враг не спит, но наши защитники стоят на страже Родины)
2. Припали защитники города к слуховым трубам. Слышат - урчат в вышине моторы. Не наши моторы. Фашистские. И сразу звонок начальнику противовоздушной защиты города:
- Враг летит! Будьте готовы!
- Ребята, какие самолеты летят и хотят напасть на нашу Родину? (ответы)
- Что сделали наши защитники?
( Услышали защитники урчание фашистских самолетов и предупредили об опасности начальника противовоздушной защиты города)

3. Сейчас же на всех улицах города и во всех домах громко заговорило радио:
«Граждане, воздушная тревога!»
В ту же минуту раздаётся команда:
- Воздух!
- Ребята, о чем оповестило радио жителей города!
(Правильно, об опасности, о воздушной тревоге)

4. И заводят моторы своих самолётов лётчики-истребители.
- Воздух!
И зажигаются дальнозоркие прожектора. Враг хотел незаметно пробраться.
Не вышло. Его уже ждут. Защитники города на местах.
- Дай луч!
И по всему небу загуляли лучи прожекторов.
- По фашистским самолётам огонь!
И сотни жёлтых звёздочек запрыгали в небе. Это ударила зенитная артиллерия. Высоко вверх бьют зенитные пушки.
«Вон где враг, бейте его!» - говорят прожектористы. И прямые светлые лучи гонятся за фашистскими самолётами. Вот сошлись лучи - запутался в них фашистский самолёт, как муха в паутине.
- Как, защитники города начали защищать город?
(Прожектористы навели желтые лучи на вражеские самолеты, а зенитчики ударили огнем по фашистским самолетам)

5. Теперь его всем видно. Прицелились зенитчики.
- Огонь! Огонь! Ещё раз огонь!
У зенитчиков меткий глаз, верная рука, точные пушки. У прожекторов- сильный луч. Не вырваться фашисту.
- Огонь! Огонь! Ещё раз огонь! - И снаряд зенитки попал врагу в самый мотор.
Повалил чёрный дым из самолёта. И рухнул на землю фашистский самолёт.
Не удалось ему пробраться к городу.
- Какие слова кричали зенитчики во время боя?
-Что случилось с фашистским самолетом?
-Удалось ли ему пробраться к городу?
( Молодцы, ребята, правильно ответили. У наших зенитчиков меткий глаз, верная рука, точные пушки.)

6. Долго ещё потом ходят по небу лучи прожекторов. И слушают небо своими трубами защитники города. И стоят у пушек зенитчики. Но тихо всё кругом. Никого не осталось в небе.
«Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!»
- Ребята, воздушный бой закончился, а зенитчики продолжают охранять город?
- А почему они продолжают охранять город? (Чтобы быть всегда на страже Родины)

Воспитатель: Давайте ребята отдохнем
Чтобы в армии служить, надо сильным, ловким быть
Физкультурная минутка
Каждый день по утрам
Делаем зарядку, (ходьба на месте)
Очень нравится нам
Делать по порядку:
Весело шагать, (ходьба)
Руки поднимать, (руки вверх)
Руки опускать, (руки вниз)
Приседать и вставать, (4-6 раз)
Прыгать и скакать. (5-7 прыжков)
Сейчас мы попробуем пересказать рассказ Льва Кассиля «Воздух» по схемам (Совместное пересказывание по схемам)
Физкультминутка «Будь внимательным»
Дети выполняют движения соответственно тексту.
Ровно встали, улыбнулись.
Руками к солнцу потянулись.
Руки в стороны, вперед.
Делай вправо поворот,
Делай влево поворот.
Приседаем и встаем,
Руками пол мы достаем.
И на месте мы шагаем,
Ноги выше поднимаем
Дети, стой! Раз-два!
Вот и кончилась игра.
Игра «Кто, где служит?»
Воспитатель:
Представим себе, что мы оказались в армии.
Вы уже знаете, что в армии есть различные рода войск.
Вам надо отгадать, кто, где служит.
Кто служит на танке? (Дети: На танке служат танкисты).
Кто служит на границе? (Дети: ….пограничники).
Кто служит в ракетных войсках? (Дети…..ракетчики).
Кто служит на подводных лодках? (Дети….. подводники).
Кто служит в военной авиации? (Дети: …..военные летчики).
Как называется солдат, у которого нет военной техники? (Дети: ….пехотинец).
6. Воспитатель : Ребята, с каким рассказом мы с вами сегодня познакомились? (рассказ Льва Кассиля «Воздух»)
- Как вы думаете, чем отличается рассказ от сказки? (Сказка это вымышленное произведение, в ней есть волшебство и т.д., а рассказ – это бывает все в реальности,
О ком рассказ?
Чему вас учит рассказ?
Какими должны быть защитники Отечества?
Мне бы хотелось подарить вам памятные подарки – раскраски, посвященные
10 июля – 110 лет Льву Абрамовичу Кассилю (1905–1970), российскому писателю и организатору Недели детской книги. Мало кто из писателей оставил потомкам не только автобиографию, но и автоэпитафию. Лев Кассиль – как раз из этих немногих, и автоэпитафия его вполне точно выражает цель и смысл его деятельности: «Он открывал детям страны, которых на свете нет, уча любить ту землю, что была ему дороже всего на свете» .
Лев Кассиль родился 10 июля (27 июня) 1905 года в слободе Покровской, после революции переименованной в город Энгельс, — это на Волге, против Саратова. Отец Льва Кассиля, Абрам Григорьевич, был врачом. Мама, Анна Исааковна, — учительницей музыки, затем зубном врачом . Детство и гимназические годы Льва Абрамовича Кассиля совпали с событиями, которые потрясли весь мир: Первая мировая война и революция 1917 года в России. В повести«Кондуит и Швамбрания» автор обращается к собственному детскому опыту и рассказывает о событиях, в которых участвовал он сам и его семья. Там есть всё: и захватывающие дух приключения, и уморительные проделки, и замечательные исторические зарисовки России начала века. Учиться мальчик начинал в гимназии, а заканчивал уже при советской власти Единую трудовую школу (ЕТШ).
Его детские мечты были вполне мальчишечьи: хотел быть извозчиком, кораблестроителем пароходов типа «самолёт», натуралистом. Уже в подростковом возрасте Льва Абрамовича считали «разносторонним мальчиком». Он мастерил модели пароходов, собирал гербарий, рисовал, учился музыке, в старших классах даже занимался в Саратовском художественно-практическом институте. Об одном из пароходов под названием «Добрыня Никитич», сделанным его руками написали в местной газете. С детства неуемный фантазер, в юности активный общественник, Лев Кассиль с отрудничал с Покровской детской библиотекой-читальней, при которой организовывались для детей рабочих различные кружки, в том числе издавался и рукописный журнал, редактором и художником которого был Кассиль.
По окончании школы в 1923 году за активную общественную работу Кассиль получил направление в вуз.Он поступил на физико-математический факультет Московского государственного университета по специальности «аэродинамический цикл». Уже в 20 лет к концу второго года учёбы он стал понимать, что ему хочется писать. Писать учился в письмах домой. Описывал в них Москву, которую в свободное время исходил пешком вдоль и поперёк. Описывал новостройки и шествия, театры и стадионы, выставки и музеи. Некоторые письма доходили до 28 страниц. Первый свой рассказ написал в 20 лет (1925 г), назывался он « Приёмник мистера Кисмиквика », был напечатан в газете «Новости радио» и посвящён американской жизни.
После такой удачи были написаны еще 6 рассказов, но редакторам газет они не понравились и напечатаны не были. Чтоб не обременять родителей и самому зарабатывать на жизнь, Лев Абрамович подрабатывал электромонтёром, художником–плакатистом, старостой в студенческом клубе, редактором университетской газеты «Синяя блуза». А всё свободное время читал и конспектировал Толстого, Пушкина, Чехова, Лескова, Флобера, которые теперь заново раскрывались перед ним. Всё это не прошло бесследно.
В 22 года (1927 г) был написан первый очерк, его признали и пригласили стать московским корреспондентом. В этом же году была задумана книга под названием «Кондуит». Написав первые страницы, он решил показать их писателю В.В.Маяковскому, который стал его учителем и старшим другом на долгие годы. В журнале Маяковского «Новый Леф» стали печататься его первые заметки и очерки. Здесь были напечатаны отрывки из первой книги "Кондуит". Вскоре Кассиль был приглашён сотрудничать с детским журналом «Пионер», где уже работали замечательные детские писатели М.Пришвин, А.Гайдар… Познакомился с С.Маршаком, встреча с которым определила творческий путь Кассиля как детского писателя. Лев Абрамович и не думал писать для детей, но главный редактор сказал: «Чудак! Вы будете писать для детей», - и Кассиль решил попробовать. Вскоре, прочитав письма маленьких читателей, откликнувшихся на его фельетоны, понял, что интереснее работы в жизни ему не найти. С журналом «Пионер» Лев Абрамович Кассиль сотрудничал много лет. И три года работал ответственным редактором замечательного детского журнала «Мурзилка».
Девять с лишним лет Кассиль проработал в популярнейшей газете того времени «Известия». Начал с небольших репортёрских зарисовок, затем выступал с большими корреспонденциями, очерками, фельетонами. Много ездил, летал, плавал, путешествуя по родной земле и за ее пределами. «Газета, - признавался он, - приучила меня, берясь за работу, сердиться или радоваться со всей страной ». Участвовал в походе советских глиссеров, в испытательных перелётах новых самолётов и дирижаблей, спускался в первые шахты строившегося московского метро. Дни и ночи находился на аэродроме, где готовился старт первого советского аэростата. Кассиль встречал в воздухе «цеппелин», участвовал в походе глиссеров, в испытательных перелетах самолетов и дирижаблей, в первом пуске московского метро, видел старт стратостата, публиковал очерки о «челюскинской» эпопее О.Ю.Шмидта, первым встретил его из ледового плена. Провожал в легендарный полет В.Чкалова, участвовал в испанской эпопее. Гостил в Калуге К.Э.Циолковского - родоначальника космической эры. Вместе со сборной командой ездил на футбольные состязания в Турцию. Много незабываемых часов провёл в гостях у А.М.Горького. Как расширился кругозор писателя, какие жизненные горизонты перед ним распахнулись, сколько людей и судеб он узнал близко, изучил, в какое количество лиц вгляделся! Газета приводит Кассиля в дом отца космонавтики К.Э. Циолковского, знакомит с В.П. Чкаловым, с О.Ю. Шмидтом, со множеством самых разных людей, живущих не только в столице, но и далеко от неё. Затем это все описывал в очерках, фельетонах и рассказах, в книжках для маленьких читателей. В 41 год (1946 г.) отправился в плаванье по Европе, в результате чего была написана книжка для ребят «Далеко в море».
В 30-е вышли в свет первые книги Кассиля для детей: научно-популярные очерки «Вкусная фабрика» в 1930 году, «Планетарий» в 1931 году, «Лодка-вездеход» в 1933 году. Из 19 книг, написанных Кассилем в 30-е годы, 18 обращены к детям и подросткам. В 1929 году в «Пионере» была опубликована первая повесть Кассиля — «Кондуит». И там же, в 1931 году, вторая — «Швамбрания». Эти автобиографические повести в 1935 году были объединены в одну книгу «Кондуит и Швамбрания ». Он воплотил главную мечту всех детей на свете: найти свою страну, не доступную для посторонних. ...В конце зимы 1914 года отбывающие наказание в углу братья Леля и Оська неожиданно для самих себя открывают Великое государство Швамбранское, расположенное на материке Большого Зуба населяют его героями и играют в эту волшебную игру много лет, пока она не разрушилась в вихре революции. Но страна верно послужила своим создателям. И пусть пока никто не обнаружил её на глобусе, но год за годом, поколение за поколением, мальчишки и девчонки создают свои государства, материки, острова и живут их, не желая уходить из волшебного мира детства. А еще это рассказ про гимназистов и их школьную жизнь, про проказы и шалости... Очаровательный и неповторимый юмор Льва Кассиля наиболее полно показал себя именно в этой повести. Книга принесла ему быструю и долговременную читательскую любовь и славу одного из классиков детской отечественной литературы 20 века. «Здравствуйте, — говорили теперь Кассилю дети на улице, — мы вас знаем. Вы этот… Лев Швамбраныч Кондуит» .
В канун 1963 года Лев Кассиль получил письмо от одного американского папы, сын которого несколько раз, как и его папа в детстве, прочитал «Страну Швамбранию» (под таким заголовком книга выходила во многих странах) и просил отца сказать свое спасибо автору книги. «Мы оба, Джимми и я, - пишет господин Джозеф Рассел, - сильно надеемся, что если многие люди на нашей стороне Атлантического океана были бы дружны с Швамбранией, значительно повысилось бы понимание между нашими двумя народами». В ответе своему американскому читателю Л. Кассиль пишет: «В Швамбранию я давно уже не играю, но все же стараюсь сохранить в себе некоторые черты швамбран: веру в могучие силы справедливости, твердое убеждение, что без мечты жить скучно и она помогает делать жизнь на самом деле счастливой и веселой... Государственную тайну Швамбрании я позволил себе разгласить потому, что мне очень хотелось, чтобы как можно больше людей научились бы мечтать, а потом находить себе такое дело в жизни, которое помогает делать задуманное сбывающимся. Поблагодари своего папу за дорогие для меня слова о моей книге. Я, как и вы с папой, тоже верю в то, что добрая мечта сближает людей и народы. Давай мечтать - вместе о жизни совсем хорошей ».
В конце 30-х годов чуть не каждый мальчишка жаждал стать лётчиком, а каждая девчонка – актрисой; и случайно ли, что именно в это время появились кассилевские повести «Черемыш – брат героя» и «Великое противостояние»? Причём главный упор в них был сделан не на выигрышных сторонах популярнейших тогда профессий, а на их нравственной сущности и огромной социальной ответственности их обладателей. Занимавшая Кассиля проблема формирования характера раскрывается в его популярной повести «Черемыш — брат героя» (1938) о мальчике – однофамильце героя-летчика. Юный сирота Гешка выдаёт себя за брата знаменитого лётчика. В облике Климентия Черемыша легко угадываются черты прославленного лётчика В. Чкалова.

« Великое противостояние » ( 1941-1947) Первая часть была опубликована в журнале «Пионер» в 1940 году. Наконец-то девочки дождались от любимого писателя книги не про мальчишек. В «Великом противостоянии» глава первая начинается дневниковой записью главной героини Симы Крупицыной: «Теперь я уже могу судить окончательно, что жизнь мне не удалась. Сегодня мне стукнуло тринадцать лет. Это уже очень порядочно. И за всю мою жизнь у меня не было ни приключений, ни увлечений и вообще никаких интересных случаев...». Но девочка еще не знает, какой необыкновенной станет ее жизнь. Кинорежиссёр Александр Расщепей пригласил московскую школьницу Симу Крупицыну сыграть крепостную девочку, партизанку Устю, в фильме «Мужик сердитый» — об Отечественной войне 1812 года. На фоне съемок фильма Сима взрослела, знакомилась с замечательными людьми. Шёл 1939 год, в котором великое противостояние планеты Марс действительно произошло 23 июля.Обычную жизнь школьницы перевернула встреча с режиссером, народным артистом Расщепеем. Живущий с полной отдачей, несущий людям добро, талант, заражающий всех своим энтузиазмом – не напоминает ли этот редкостно гармонично выписанный образ самого автора? Хотя биографы Кассиля, очевидно, имеют основания считать прототипом Расщепея режиссера Сергея Эйзенштейна.
Во время
войны писатель стал получать множество писем: читатели хотели знать, как
встретила Сима «великое противостояние» в истории своей страны.
Кассиль закончил вторую часть — «Свет Москвы». Первая называлась «Моя Устя»
— о работе Симы под руководством Расщепея над образом юной партизанки в
Великой Отечественной войне 1812 года. Книга вышла в 1947 году, к 800- летнему
юбилею Москвы и в следующем году получила первую премию на конкурсе
Министерства просвещения РСФСР на лучшую художественную книгу для детей.
Писатель был растроган, узнав мнение о его повести строгого ценителя,
выдающегося деятеля искусства народного артиста СССР В.И. Немировича-Данченко: «Должен признаться, что давно не читал
рассказа, написанного с такой искренностью, простотой, трогательностью и
каким-то особым ароматом... Во всем рассказе я не встретил ни одной фальшивой
ноты. Все время забываешь, что это не настоящий дневник девочки, а сочинение
Льва Кассиля. Есть моменты, захватывающие до слез...»
В годы Великой Отечественной войны Кассиль — военный корреспондент на Северном флоте, Западном и 1-м Украинском фронтах. Он выступал по радио, в школах, воинских частях, на предприятиях Москвы и Урала. А в суровом 1943 г. родилась идея организовать неделю детской книги, и в 1943 году в Москве в Колонном зале собрали ребятишек, объединенных любовью к книгам. Он дал ей чудесное название - Книжкины именины. Перед детьми выступили писатели - классики детской литературы того времени.
В годы войны Кассиль выпускает в Детгизе сборники рассказов «Обыкновенные ребята», «Твои защитники» (1942). В них повествует о повседневном героизме не только взрослых, но и детей. Потрясающие примеры самопожертвования писатель видел и на уральских оборонных предприятиях, на Западном и Первом Уральском фронтах, и работая корреспондентом Всесоюзного радиокомитета на действующем Северном флоте (в Заполярье). Не случайно сборник рассказов «Всем сердцем» был издан в 1943 году Военмориздатом. Сборник рассказов «Есть такие люди», изданный в 1943 году, интересен тем, что в нем напечатан рассказ «Зеленая веточка», посвященный жене Кассиля, Светлане Леонидовне Собиновой. Абсолютное большинство рассказов для детей, написанных Кассилем в военные годы, основано на событиях достоверных. Это «Рассказ об отсутствующем», «Линия связи», «Все вернется», «У классной доски», «Отметки Риммы Лебедевой», «Держись, капитан!». Рассказы из сборников Льва Кассиля «Главное войско», «Твои защитники» остаются современными, после их чтения мальчики и девочки ещё раз скажут «спасибо деду за победу». «Сядь, мой дружок, раскрой эту книжку, посмотри картинки, послушай, про что говорится тут…»



В годы войны была написана и одна из лучших повестей — «Дорогие мои мальчишки » (1944). Она посвящена светлой памяти Аркадия Петровича Гайдара, чья большая дружба с мальчишками и девчонками и богатая фантазия воплотились в образе синоптика Арсения Гая. Своим названием Синегория тоже связана с Гайдаром: «Жил человек в лесу, возле Синих гор...» («Чук и Гек»). В летнем лагере Арсений Петрович Гай затеял для своих пионеров интересную и полезную игру в страну Синегорию. Так Капка Бутырев стал оружейником Изобаром, Валерка Черепашкин — мастером зеркал Амальгамой, Тимка Жохов — садовником Дроном Садовой Головой. Летом 1942 года А.П.Гай погиб на войне. Капка пошёл работать фрезеровщиком на судоремонтный завод.Но ни он, ни его товарищи не забыли, что они славные синегорцы, чей девиз: «Отвага, Верность, Труд — Победа» . Реальные трудности жизни ремесленников, школьников маленького волжского городка в трудные годы войны, их соперничество с юнгами острова Валаам, постепенно переросшее в крепкую дружбу… Повесть проникнута стремлением напомнить о мирном детстве и внушить веру в то, что «все опять станет хорошо, все будет, как надо».
Документальная повесть « Улица младшего сына » (1949) написанная в содружестве с журналистом М.Поляновским - о разведчике керченского партизанского отряда пионере Володе Дубинине. В центре повествования не столько события жизни юного героя, сколько проблема формирования его характера. Керченские ребята, знавшие Володю, говорили:«Хотя Володя и положительный тип, но он и кулаком умел двинуть, и в смешные истории попадал. Ему немало попадало в школе...» Кассиль писал: «В Володе Дубинине, не принижая пленительной доблести этого «младшего сына» нашей Родины, я стремился выделить черты его духовного родства, те свойства, которые могут быть взяты на вооружение читателем, обнадежат его и поведут по верной дороге творчества, труда, подвига. Я убежден, что в маленьком герое пионере- разведчике Володе Дубинине творческое начало не уступало героическому. То был великолепный характер дерзания...» Володя Дубинин стал идеалом для многих читателей.
«Ранний восход » (1949 г. —1953 г.) тоже документальная повесть, посвященная светлой и короткой жизни начинающего художника Коли Дмитриева. В основу положена действительная история, использованы и приведены подлинные письма, документы, дневники. Яркая, живая, волнующая история юного, но очень талантливого художника. Выставки его многочисленных работ вызывали всеобщее восхищение в 50-х годах XX в.,появилось много репродукций с его произведений. Б.Л.Пастернак писал: «Головокружительность дарования этого удивительного мальчика несоизмерима с печальным фактом его смерти. Мне кажется, будь он, по счастью, еще жив и даже гораздо старше годами, все равно я точно так же плакал бы перед этими работами и от волнения не мог бы произнести ни слова. Да как же иначе, когда эти акварели, как живые, сходят со стен Вам навстречу, берут Вас за руки, заговаривают с Вами и уводят, куда им вздумается !» Феноменально талантливый мальчик трагически погиб в возрасте пятнадцати летв результате несчастного случая на охоте (ружье выстрелило прямо в висок). « Знаешь… я напишу когда-нибудь, вот если как следует выучусь, картину. Такой ранний-ранний рассвет. Двое идут. Дорога вдаль вьется. Далеко-далеко… Там горы, и солнце только всходит. А им еще идти и идти, и день только начинается» , - сказал однажды Коля своей подруге. Так случилось, что Колина жизнь оборвалась на рассвете, и его дар не успел раскрыться в полную силу. Но после него остались работы, показывающие недюжинную силу этого художника. И эта замечательная повесть Л.А.Кассиля, которая вот уже более 60 лет не оставляет равнодушным ни одного читателя. Повесть о таланте и труде, о настоящей цельной и яркой личности.
 В 1964 г. Кассиль придумал свою третью
страну в повести «Будьте готовы, Ваше
высочество!»
. В пионерском лагере на берегу Черного моря отдыхает Дэлихьяр
Сурамбук — наследный принц Джунгахоры. Автор с лукавой официальностью дает
справку об этой несуществующей стране. Называет, как полагается, ее площадь,
численность населения, столицу, тип государственного устройства —
конституционная монархия. Писатель создал рисунки трех его стран. На
джунгахорском гербе девиз стилистически соответствует специфике этой явно
неевропейской страны: по-восточному витиевато провозглашается, что один слон
добра растопчет сотни змей зла. Книга озорно адресована детям «до 16-ти». И
многие из его читателей не сомневаются в существовании придуманной им страны. В
книгу, озаглавленную Кассилем «Три страны, которых нет на карте» вошли: «Кондуит
и Швамбрания», «Дорогие мои мальчишки» и «Будьте готовы, Ваше высочество!». Она
стала последней, которую писатель держал в руках... Вышла в свет буквально за
день до его скоропостижной кончины.
В 1964 г. Кассиль придумал свою третью
страну в повести «Будьте готовы, Ваше
высочество!»
. В пионерском лагере на берегу Черного моря отдыхает Дэлихьяр
Сурамбук — наследный принц Джунгахоры. Автор с лукавой официальностью дает
справку об этой несуществующей стране. Называет, как полагается, ее площадь,
численность населения, столицу, тип государственного устройства —
конституционная монархия. Писатель создал рисунки трех его стран. На
джунгахорском гербе девиз стилистически соответствует специфике этой явно
неевропейской страны: по-восточному витиевато провозглашается, что один слон
добра растопчет сотни змей зла. Книга озорно адресована детям «до 16-ти». И
многие из его читателей не сомневаются в существовании придуманной им страны. В
книгу, озаглавленную Кассилем «Три страны, которых нет на карте» вошли: «Кондуит
и Швамбрания», «Дорогие мои мальчишки» и «Будьте готовы, Ваше высочество!». Она
стала последней, которую писатель держал в руках... Вышла в свет буквально за
день до его скоропостижной кончины.
 Кассиля часто называют зачинателем нашей
спортивной литературы. Он был страстным болельщиком. Без него не обходилось ни
одно соревнование, ни одна олимпиада. Многие спортсмены ставили Кассиля на
первое место в списке лучших спортивных репортёров. А прославленный Лев Яшин отдал
своему тёзке пальму
первенства в списке «33 лучших, сделавших многое для развития футбола в СССР». Роман «Вратарь
Республики
», написанный в 1938 году, отразил страсть писателя к футболу. «Ход белой королевы
»
(1956) был посвящен лыжному спорту, героиня романа Наташа Скуратова
становится чемпионкой Белой олимпиады. «Чаша
гладиатора
»
(1961) – жизни циркового борца и судьбам русских людей, оказавшихся
после 1917 года в эмиграции.
Герой этого
романа, цирковой силач Артём Незабудный, напоминает сразу двух знаменитых
русских борцов — Ивана Заикина и Ивана Поддубного. Героями книг Льва Кассиля были
большей частью сверстники его читателя – мальчики и девочки. Но он писал и о
взрослых людях, о тех, кто составляет нашу гордость, славу, кто является
примером. Разве можно сосчитать, сколько людей стало заниматься спортом под
влиянием его книг «Вратарь республики», «Ход белой королевы», «Чаша
гладиатора»?
В 1965 г «Вратарь
Республики» и «Ход белой королевы» были изданы сборником «Два кубка» в серии
«Тебе в
дорогу, романтик»
.
И как
послание от Льва Кассиля - «Надо ездить! Как можно больше ездить! Иначе теряешь
ощущение кривизны пространства, забываешь, что земля шарообразна, и жизнь
становится плоской…» («Ход белой королевы»).
Кассиля часто называют зачинателем нашей
спортивной литературы. Он был страстным болельщиком. Без него не обходилось ни
одно соревнование, ни одна олимпиада. Многие спортсмены ставили Кассиля на
первое место в списке лучших спортивных репортёров. А прославленный Лев Яшин отдал
своему тёзке пальму
первенства в списке «33 лучших, сделавших многое для развития футбола в СССР». Роман «Вратарь
Республики
», написанный в 1938 году, отразил страсть писателя к футболу. «Ход белой королевы
»
(1956) был посвящен лыжному спорту, героиня романа Наташа Скуратова
становится чемпионкой Белой олимпиады. «Чаша
гладиатора
»
(1961) – жизни циркового борца и судьбам русских людей, оказавшихся
после 1917 года в эмиграции.
Герой этого
романа, цирковой силач Артём Незабудный, напоминает сразу двух знаменитых
русских борцов — Ивана Заикина и Ивана Поддубного. Героями книг Льва Кассиля были
большей частью сверстники его читателя – мальчики и девочки. Но он писал и о
взрослых людях, о тех, кто составляет нашу гордость, славу, кто является
примером. Разве можно сосчитать, сколько людей стало заниматься спортом под
влиянием его книг «Вратарь республики», «Ход белой королевы», «Чаша
гладиатора»?
В 1965 г «Вратарь
Республики» и «Ход белой королевы» были изданы сборником «Два кубка» в серии
«Тебе в
дорогу, романтик»
.
И как
послание от Льва Кассиля - «Надо ездить! Как можно больше ездить! Иначе теряешь
ощущение кривизны пространства, забываешь, что земля шарообразна, и жизнь
становится плоской…» («Ход белой королевы»).
Им были написаны публицистические книги о близких ему писателях «Маяковский – сам» (1940); « Сергей Михалков» (1954). О выдающихся современниках (К.Э. Циолковском, В.П.Чкалове, О.Ю.Шмидте – в книгах « Люди нового века», « Человек, шагнувший к звездам», обе 1958), литературно-критические очерки об А.Гайдаре, М.Ильине, А.Алтаеве и др., автобиографические заметки. Совместно с С.В.Михалковым издал не лишенную послевоенной политической эйфории книгу путевых очерков « Европа – слева!По маякам пятнадцати стран»(1947).
Лев Кассиль старался всегда, как говорили летчики-истребители, быть «в готовности номер один», то есть «жить, работать, оставаться всегда нацеленным, по верхнюю черту заправленным, полностью заряженным, чтобы при первом же сигнале взвиться в бой ». Именно Кассиль в течение десятилетий был душой, распорядителем и председателем Недели детской книги. Именно он долгие годы вёл радиорепортажи с Красной площади во время майских и октябрьских торжеств. Он вёл новогодние ёлки в Колонном зале Дома Союзов и комментировал футбольные матчи, работал специальным корреспондентом на олимпийских играх, плавал вокруг Европы, ездил по Италии с лекциями о Маяковском. Однажды в своём дневнике он написал: «Времени, времени у меня нет! Времени не хватает, как воздуха. Живу постоянно в муках временного голодания ». Когда при таком уплотнённом распорядке дней он написал своё собрание сочинений — уму непостижимо. Каждые год-два выходила новая книга.
А каким он был оратором, Лев Абрамович! Ему стоило только выйти на трибуну, произнести первые слова, как между ним и теми, кто пришёл его слушать, возникали невидимые, но крепкие нити. И – при всей своей доброте – как умел он мгновенно дать резкий, жестокий отпор пошляку, нахрапистому ловкачу, упорствующему бюрократу. Он был не из тех, кто переживает бури, отсиживается в затишке, ожидая устойчивой хорошей погоды. Он стремился прожить каждый день активно и яростно, не щадя себя. Очевидно было, что по состоянию здоровья ему никак нельзя было, к примеру, лететь в далёкую и высокогорную Мексику. Но разве можно было отговорить его от этого.
В 1965 году Кассиль был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР. Он участвовал в разработке новых учебников по литературе, просматривал рукописи книг для чтения. Многие годы преподавал в Литературном институте им. М.Горького, где вёл семинар детских писателей, читал рукописи своих студентов, писал статьи в газеты, принимал участие в литературных дискуссиях на встречах с читателями. Был бессменным председателем объединения московских детских и юношеских писателей. Выпускал для детей сборники рассказов разных писателей и придумывал для этих сборников звонкие названия. Он был награждён Сталинской премией третьей степени (за повесть «Улица младшего сына»), орденом Трудового Красного Знамени (1955), орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почёта».
Он был академиком, спортсменом, редактором, журналистом. Но в анкете, отвечая на вопрос о профессии, всегда с гордостью писал: детский писатель. «Пишу, как в силах, как умею, дорогим моим мальчишкам и девчонкам книги об их же открытых, весёлых и жарких сердцах, полных дерзания, упрямой мечты и необоримой жажды подвига, чтобы победили в мире справедливость и красота. И нет для меня на свете дела важнее и прекраснее! » Лев Абрамович Кассиль никогда не жалел, что выбрал для себя путь, ведущий к ребятам. Ему всегда было интересно встречаться с ними. Неизменно открывал Неделю детской книги и чуть ли не ежедневно выступал перед своими читателями в школах, библиотеках, детских домах, санаториях, пионерлагерях — по всей стране. Он пользовался каждой возможностью, позволяющей встречаться с маленькими читателями с глазу на глаз и нос к носу. Для этого ему даже пришлось научиться выступать перед ребятами. Ведь от природы он был робкий, дикция была нечёткая, язык не хотел говорить перед большой аудиторией.
Как никто другой понимал он мальчишек, этих «самых первых двигателей прогресса», как написал Кассиль в очерке-этюде «Мальчишки»: «О мальчишки! Надоедливые, несносные, обожаемые мальчишки! Хвала вам! «Мальчишек радостный народ» — вот как сказал о вас Пушкин. Вы — веселый ветер, расправляющий морщины на челе мира, влекущий в новое и освещающий память о том, какими мы были сами в отрочестве. Птицы, звери, корабли, автомобили, самолеты, футбольные матчи, людоеды, извержения вулканов, фазы луны и поспевания арбузов на ближайшей бахче — все вас касается, мальчишки» . Очерк «Мальчишки» появился 12 февраля 1960 года в газете «Известия».
Всю жизнь Л. Кассиль оставался в душе ровесником своих мальчишек и девчонок, о которых и для которых он писал, заботясь о том, чтобы они выросли достойными людьми. А что вкладывал писатель в понятие «достойный человек», он сформулировал в своих записках «Из заветов моим детям». Лев Абрамович был образцом хорошо воспитанного человека. Он был скромен и изящен во всём: в костюме, в обращении с людьми, в своих привычках. Для него чрезвычайно важно было, чтобы молодёжь вырастала не только здоровой, умной, весёлой, но и деликатной, отзывчивой, умеющей отличить подлинную культуру от наносных, нечистоплотных привычек. Среди книг Льва Кассиля можно найти и такие – «Дело вкуса», «Разговор о культурном человеке».
21 июня 1970 года Кассиль отметил в дневнике: «Приглашают поехать почётным гостем в Ленинград на IV Всесоюзный слёт пионеров. Вряд ли смогу… Сил нет. Записал по радио обращение к участникам слёта» . Через несколько часов Кассиль умер перед телевизором во время финальной встречи футбольного первенства, в которой участвовала любимая команда «Спартак». За неё он «болел» всегда. Не выдержало сердце. «Жить надо во весь рост – под самый потолок свой, - башкой в предел, не оставляя зазора над собой, не расслабляясь в прогибе ». Именно так и прожил свою жизнь писатель Лев Кассиль. В городе его детства Энгельсе в сохранившемся доме отца писателя создан Музей Кассиля, есть улица его имени, на Площади Свободы ему установлен памятник. А 22 марта 1977 года астроном Н.С.Черных назвал открытую им планету № 2149 Швамбранией. Это ли не признание того, что Лев Кассиль и его книги хранятся в благодарной памяти его читателей! Дочь Кассиля Ирина стала режиссёром и художником мультипликационных фильмов, сын Владимир – врачом-реаниматологом.
Сорок с лишним лет проработал Лев Абрамович Кассиль в литературе. Им написаны хорошо известные романы, повести, пьесы, сценарии, рассказы, множество журнальных и газетных очерков, репортажей, корреспонденций. Во всём этом разнообразии с достаточной чёткостью выявился тот особый кассилевский талант, отличительными чертами которого являются подкупающая искренность, добрая улыбка, душевная мягкость и чуткость, серьёзность в подходе к любому жизненному явлению, обратившему на себя внимание писателя. Есть в почерке писателя Кассиля важная особенность. Как угодно назови: обострённое чувство юмора, или романтическая восторженность, или неиссякаемая молодость – но это всегда с Кассилем в его книгах. Извечная мечта, неистребимая тяга к открытиям и путешествиям воплотилась в новых странах, созданных воображением Кассиля, не помеченных ни на одной географической карте. У них реальный источник—мир воспоминаний детства и детских игр. Можно отметить ещё одно достоинство. Речь идёт о том, что Лев Кассиль писал легко, то есть точнее говоря, написанное им читается легко. Все эти черты кассилевского таланта можно обнаружить в любой его книге. Разговор о жизни, о победе добра над злом, об осуществлении человеком своей мечты серьезно или с юмором ведет Л. Кассиль на страницах своих произведений. Дверь в удивительную книжную страну писателя всегда открыта.
Кассиль Лев
Вслух про себя (Попытка автобиографии)
К существованию я приступил в 1905 году. Произошло это в слободе Покровской, ныне городе Энгельсе, что против Саратова на Волге, 10 июля по новому стилю. Время было жаркое, да и год, как известно, шел горячий - год первой русской революции, год, называемый "генеральной репетицией".
В тот день на квартире моего будущего отца, общественного врача, собрались на нелегальную сходку представители местных революционно настроенных кругов. Из Саратова приехал агитатор - студент-агроном. А чтобы полицию не тревожило такое необычное скопление на частной квартире, околоточному сообщили, что у нас отмечается годовщина Полтавского боя. Дело в том, что по старому численнику в этот день, 27 июня, полагалось благодарственное молебствие в память победы Петра Первого над шведами под Полтавой. Поэтому, когда к открытым из-за жары окнам гостиной подплывала снаружи распаренная физиономия городового, мама спешила сесть за рояль и наигрывала что-то чрезвычайно воинственное, а студент-агроном мелодекламировал в окно: "Выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен..." Настороженный городовой за окном приостанавливался. "Движенья быстры. Он прекрасен!" - спешил продолжить студент, и успокоенный городовой проходил дальше.
Но к вечеру в гостиной начались распри. Эсдеки поссорились с эсерами. Шум поднялся уже совершенно не конспиративный. Напрасно папа, пытаясь заменить студента, по уши погрязшего в споре, читал в окно: "Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром..." В смятении он сбился с Полтавской баталии на Бородинской сражение. Мама очень разволновалась. Гости, заметив это, стали поспешно покидать квартиру.
И я родился...
Так передает семейная легенда, это для меня немаловажное событие.
Однако впоследствии, когда известное американское издательство "Вайкинг Пресс", выпуская в Нью-Йорке мою книгу, снабдило ее краткой биографической справкой об авторе, обстоятельства моего появления на свет были там изложены так: "Лев Кассиль родился с шумом революции в ушах... В час его рождения отец будущего писателя, народный врач небольшой деревни на Волге, пытался успокоить толпы восставших, читая из окон своей библиотеки классические стихи..."
Но вернемся к истинному положению. У Маяковского есть такие известные строки: "Я родился, рос, кормили соской". Не пытаясь проводить какие-либо нескромные параллели, скажу, однако, что строки эти вполне применимы и ко мне. Я тоже рос, и меня также кормили соской. Правда, сперва была мама, потом кормилица, заменявшая маму, а затем соска, изображавшая кормилицу. Должен сконфуженно признаться, что к этому резиновому источнику иллюзий я очень пристрастился и лет до четырех никак не мог отпасть от нее, беря тайком, без спросу, бутылочку с соской у появившегося к тому времени младшего братишки. Затем соску заменил палец. Так была пройдена вся многоступенчатая система сосания. Но тут отец как-то растолковал мне, что сосать негигиенично, из пальца ничего путного не высосешь. Верность этому гигиеническому принципу я стремился сохранить всю жизнь. Это постепенно рождало неприязнь ко всему растяжимо-утешительному, суррогатному, пустышечному и слюнявому, с чем иной раз приходилось встречаться в жизни и в искусстве. Впоследствии это помогло определить те симпатии, которые привели меня к Маяковскому.
Учился я сперва в старой царской гимназии. Окончить ее не успел. Но прикончить помог. И вместе с моими товарищами, вчерашними гимназистами, стал учиться в советской Единой трудовой школе. Обуреваемый всех нас захватившей жаждой общественно-полезной деятельности, я стал работать в Покровской детской библиотеке-читальне, где ребята местных железнодорожников, рабочих костемольного завода и лесопилок, пристанских лодочников и грузчиков смогли впервые дорваться до книги. Мы напридумали всевозможные кружки - драматический, литературный, стали издавать рукописный журнал. Я был его редактором, художником, и, конечно, мне захотелось выступить и в качестве автора. Будучи не в силах противиться этому честолюбивому стремлению, я поместил на страницах нашего журнала за своей подписью стихи... теперь могу признаться, целиком списанные с настенного календаря, бесплатного приложения к журналу "Пробуждение".
Но о литературной работе в будущем я тогда и не помышлял. Мне нравились совсем иные занятия, меня влекли другие дела и профессии. Сначала я мечтал, как и многие "мои пешие сверстники, сделаться извозчиком, так как автомобили и самолеты в то время обретались еще за пределами мечты. Потом я помышлял стать кораблестроителем. Я мастерил модели волжских пароходов. Никаких пособий или хотя бы подходящих строительных материалов у меня в то время не было. В ход шли старые картонки Из-под маминых шляп, спицы от зонтов, дощечки от сигарных ящиков, лучинки. Мы с братишкой ходили обляпанные Клейстером, прирастая штанами к стульям или превращаясь в сиамских близнецов... Но это не остужало моего конструкторского энтузиазма. И об одном из моих пароходов, типа "Самолет", названном мною "Добрыня Никитич", написали даже в местной газете. После этого я перестал завидовать своему уличному приятелю, который постоянно шатался у нас во дворе, что о нем уже "пропечатали" в газете. О нем действительно было однажды написано вашей газете следующее: "Неизвестным вором у купца Шрохина похищены самовар и фуганок". Приятель мой вырезал это место из газеты, показывал всем нам и, подшучивая, сообщал доверительно: "Это про меня..."
Потом я решил стать натуралистом. Стал собирать гербарий. Пока дело касалось лютиков и ромашек, все шло благополучно. Но я попробовал засушить в гербарии небольшую дыню, для чего положил ее под папин матрац. Последствия были одинаково неприятны, как для дыни и матраца, так и для меня... Тогда я стал собирать коллекции жуков и бабочек. Изловив солидное количество бронзовок и жужелиц, я усыпил их эфиром и насадил на булавки. Но эфир, вероятно, был слабым или выдохся. И ночью вся коллекция у меня сбежала... Еще день-другой потом окружающие, ложась спать, вскрикивали испуганно и вытаскивали из-под одеяла нечто жесткокрылое или перепончатокрылое. И увлечение мое угасло. Рос я медленно. В классе был чуть ли не самым маленьким. Ставили меня в последнюю пару, зато сажали на первую парту. Революция грянула тогда, когда зарубка на дверях столовой, где отмечали мой рост, дошла еле-еле до ста тридцати трех сантиметров от полу. Остальные полметра моей длины я нарастил уже в новую эпоху. Думаю, что как раз эти полметра и были для меня во всех отношениях решающими.
Впрочем, если уточнить этапы роста, надо сказать о следующем происшествии. Незадолго до окончания школы второй ступени я угодил в страшную бурю на Волге. Неистовой силы ураган, вызванный внезапно обрушившимся на наш город циклоном, валил заборы, срывал крыши, выбрасывал баржи на берег, опрокидывал пустые товарные вагоны с железнодорожного полотна. На разбушевавшейся Волге перевернулась лодка-дощаник, на которой перевозили коз. Лодочники выбрались на плот, а козы начали захлебываться. Мы с приятелем попробовали на моторной лодке спасти их. Коз мы не спасли, а меня с моим дружком спасали уже работники пристани. Промокли мы до костей, но тут же были высушены ветром. В результате я поймал жестокую, желтую, тропическую малярию, эпидемию которой занесли войска, вернувшиеся тогда из Средней Азии после подавления басмачей.
Девять горячечных недель я плавал где-то между жизнью и смертью. Я был исколот шприцами, как святой Себастьян - стрелами. И когда наконец я смог опустить на пол с постели свои чудовищно отощавшие, голенастые, как у саранчука, ноги, я был потрясен: конечности мои ушли от меня куда-то далеко вниз, а потолок стал непривычно близок к моей макушке! Меня всегда чрезвычайно занимал этот феномен - стремительный рост ребят за время болезни... Впоследствии я даже попытался разработать на сей счет некую гипотезу, вложив ее в уста одного из героев повести "Дорогие мои мальчишки", историка и философа Валерки Черепашкина:
"По-моему, это потому так бывает, что, когда человек ходит, он может расти только в одну сторону - вверх, снизу ему пол мешает, а когда долго лежишь, то можно расти в обе стороны - и макушкой и пятками". Не берусь здесь доказать правоту этой идеи, но, во всяком случае, когда я первый раз после болезни, страшно вытянувшийся и тонкий, как макаронина, выполз на улицу, те же самые приятели мои, которые обычно дразнили меня "карапузом" или "коротышкой", стали сбегаться ко мне, скрывая за насмешкой удивление и крича: "Дяденька! Достань воробышка!" А более остроумные подходили и, глядя на меня снизу вверх, осведомлялись: "Ну, как там, наверху, не холодно?" С тех пор я уже, мне помнится, не рос, но и не укорачивался, как меня ни изводили дразнилками. Однако, кроме постоянно преследовавших меня с этого времени насмешек над моей длиной и худобой, жизнь отягчали еще следующие обстоятельства. Я принадлежал к числу тех несчастных мальчиков, которых, попеременно сбивая с толку, окружающие называют "разносторонне одаренными".
Раздираемый обнаруживающимися во мне, по мнению знакомых, способностями, я долго не знал, чем же мне следует заняться всерьез. Художники находили у меня определенные склонности по их части, и я послушно учился рисованию и малевал, а когда был в последнем классе школы, то даже занимался параллельно в Саратовском художественно-практическом институте. Музыканты же утверждали, что у меня отличный слух и мягкое Ратуше, и я много лет терзал рояль и корябал слух окружающим, если верить, что таковой у них был. А тут еще приехавший из голодного Петрограда учитель словесности А. Д. Суздалев, образованный и опытный педагог-энтузиаст, прочтя написанные мною по его заданию домашние сочинения, заявил напрямик моим родителям, что, чему бы меня ни учили, все равно я, увы, в будущем стану литератором...
Суздалев приучил меня читать серьезные книги о книгах. Я с ним читал Веселовского и Котляревского, пристрастился к Белинскому, Добролюбову, Писареву. Мне было трудно поверить Суздалеву, что мое призвание - литература, но слова его я запомнил, а серьезного чтения уже оставить не мог. Впрочем, не стоит сваливать всю вину за то, что я впоследствии сделался литератором, на одного Суздалева... Боюсь, что это случилось бы рано или поздно и без предсказаний моего доброго, просвещенного и дальновидного учителя. А вот за то, что он, как человек ученый и серьезный, привил мне неприязнь ко всякого рода дилетантству, - за это спасибо ему!
В 1923 году, окончив школу, я за хорошую общественную работу в библиотеке-читальне получил от обкома партии командировку в высшее учебное заведение по существовавшей тогда разверстке. Я ехал в Москву, чувствуя, что уже далеко за плечами осталось детство, кончилось отрочество, начинается юность. Прощальные дразнилки провожавших меня друзей уже не задевали моего самолюбия. Но не успел я сойти с поезда на московскую землю и выйти на площадь Павелецкого вокзала, как какой-то московский школьник, отбежав на всякий случай подальше, крикнул мне: "Длинный! Где проезд Неглинный?.." Это было первое, что я услышал в столице. Я утешил себя тем, что услышанная мною дразнилка - вопрос о какой-то московской улице - должна быть воспринята не иначе, как некое посвящение меня в москвичи. Сдав вступительные экзамены, я начал учиться на математическом отделении физико-математического факультета Московского государственного университета, избрав по специальности аэродинамический цикл. Скажу сразу, что, несмотря на это мудрое обозначение, настоящий математик из меня не вышел...
Уже к третьему курсу меня неотвратимо потянуло писать. Желанию этому противостоять я не мог. Писать я учился в письмах домой. Я описывал в них Москву, которую в свободные от занятий часы исходил пешком вдоль и поперек, от центра до пригородов. Я описывал новостройки и шествия, театры и стадионы, магазины и Зоопарк, выставки и музеи. Некоторые письма доходили до 28 страниц.
Потом выяснилось, что младший мой братишка Ося и его приятели берут у матери эти письма, перепечатывают их на машинке и помещают отрывки в местной газете, под заголовком: "Письма из Москвы". За это им в редакции что-то платят, они не отказываются, берут гонорар, ходят в кино и едят пирожные за мое здоровье. Тут я стал подумывать, что и сам бы мог позаботиться о своем здоровье, не препоручая это моим волжским друзьям.
Но настоящее решение пришло иначе.
Я навсегда запомнил этот неистово морозный день с низко нависшим тяжелым небом, к которому поднимались дымные столбы от костров, зажженных на московских перекрестках. Я был в траурной очереди у Колонного зала и дважды прошел мимо гроба Ильича. На всю жизнь запомнил я этот скорбный день, заиндевевшие лица тысяч людей, дымное дыхание молчаливой толпы и потом надрывный плач заводских гудков над городом. Я так замерз, что, когда стоял у Колонного в третий раз, упал, и красноармейцы отогрели меня у костра. Но когда я пришел домой и окоченевшие мои пальцы настолько оттаяли, что могли держать ручку, я сел писать. Я писал всю ночь. Я писал для самого себя. Мне надо было найти слова, чтобы выразить все то, что увидел я в этот день, заглянув в бездонную пропасть народного горя... Может быть, в эту ночь я впервые по-настоящему захотел стать писателем.
Примерно через год я написал свой первый рассказ. То была пора бурно распространявшихся радиоувлечений. Мы мастерили самодельные приемники и с сердцем, замирающим от восторга перед могуществом техники, слушали в эбонитовых наушниках размеренный диктант ТАСС: "Точччка... По буквам: Петр, Анна, Роман, Иван, Жанна... :Париж!.." И это казалось нам чудом. Свой первый рассказ я тоже посвятил радио. При этом я совершил ту сакраментальную ошибку, без которой не обходится обычно ни один начинающий. "Что же я буду писать про то, о чем все знают! - размышляет начинающий. - Нет! Я напишу про то, чего никто не знает и я в том числе... Вот это - другое дело!" И мой рассказ был посвящен американской жизни. Жил я в то время на Таганской площади, что, как известно, довольно далеко от Бродвея, английским языком тоже еще не занимался. Но все это меня нимало не смущало. Рассказ свой я назвал "Приемник мистера Кисмиквика". Понравившуюся мне, по созвучию с бессмертным Пиквиком, фамилию моего героя я случайно подслушал у соседки по квартире, которая любила читать вслух то, что ей было задано учительницей английского языка. Рассказ мой был напечатан 28 июня 1925 года в газете "Новости радио". Торжество мое было несколько омрачено тем, что уже 29-го числа выяснилось: Кисмиквик - это вовсе не фамилия, а, если перевести с английского, значит: поцелуй меня скорее... Вот тебе и Пиквик!..
А дальше дело совсем не пошло. Я написал довольно быстро пять-шесть рассказов и разослал их в пять-шесть редакций, подсчитав, что собрание моих печатных сочинений вскоре, таким образом, увеличится объемом в пять-шесть раз... Но из одних редакций мне мои писания были возвращены с непонятной, но роковой пометкой: Н. П. (что, как оказалось, значило "не подходит"... "не подойдет"), из других ответы вообще не пришли. Я ходил по редакциям и робко приговаривал, что у нас трудно пробиваться молодому дарованию. Редакторы были непоколебимы. И, глядя на меня в упор, заявляли при этом, что дарования они не видят...
Но однажды, после очередного неудачного посещения редакции, я как-то раскрыл томик Чехова, давно уже как будто мною прочитанный... И внезапно такой жгучий стыд тысячами иголок пронзил мне изнутри загоревшиеся щеки!.. Бессовестный! На свете написано такое, а я еще норовил печататься...
Я решительно оставил эти теперь показавшиеся мне наглыми попытки. Я сел читать. Это было нелегкое для меня время. Чтобы не обременять родителей и самому зарабатывать себе на жизнь, я поступил подручным в студенческую артель электромонтеров, работал также художником-плакатистом, рисовал объявления для магазинов: "Получена свежая икра", "Прибыли раки"... В студенческом клубе я был старостой и редактором университетской "живой" газеты "Синяя блуза" и сам выступал как исполнитель разных сатирических ролей, главным образом английского министра Чемберлена, которому от нас крепко доставалось... А все свободное время читал, сидя по ночам над книгами Толстого, Пушкина, Чехова, Лескова, Флобера, которые теперь совершенно заново раскрывались передо мной во всем их пленительном и непостижимом могуществе. Я читал и много писал для себя, "в стол".
И это, по-видимому, не прошло даром. Очерк, написанный "на пробу" в 1927 году по предложению одного из представителей периферийной газеты, не только был признан им подходящим, но даже вызвал у него сомнение - сам ли я его написал? И меня тут же пригласили стать московским корреспондентом газет "Правда Востока" (Ташкент) и "Советская Сибирь" (Новосибирск).
В то же время я задумал написать свою первую книгу о том, как рухнула старая школа, как мы сами выучили все, что нам не хотели объяснить в классе. Во мне еще была свежа обида за детство, втиснутое в графы гимназического штрафного журнала, "кондуита", на зловещие страницы которого заносились все наши провинности. Так я и решил назвать свою первую книгу - "Кондуит".
С первыми ее страницами я, волнуясь, пришел в маленький Гендриков переулок за Таганкой, туда, куда давно меня влекло восторженное преклонение перед громоподобным талантом жившего там человека. Я взбежал по лестнице, а сердце у меня от волнения скатилось вниз по ступенькам. Я позвонил у двери, на которой была прибита медная дощечка с именем Маяковского. Я позвонил, и мне открыли.
Через эту дверь я и вошел в литературу. Владимир Владимирович Маяковский с этого дня стал моим учителем, а вскоре я имел уже основание считать его; своим старшим другом. Я вошел в небольшую группу писателей и поэтов, которую возглавлял Маяковский. В журнале Маяковского "Новый Леф" были напечатаны мои заметки, а затем первые отрывки из "Кондуита". Меня тут же выбранили за них в журнале "На литературном Посту", ехидно высмеяли в "Крокодиле"...- Что, бьют? - спрашивал меня, сочувственно и хмуро усмехаясь, Маяковский. - Пока не поздно, одумайтесь. Будете со мной, бить будут обязательно. Может быть, приискать вам место поуютнее?.. Но мог ли я допустить хотя бы на мгновение постыдную мысль о трусливом бегстве от огромного счастья - быть с Маяковским...
Впрочем, откликнулись не только ругатели. Детский писатель-коммунист, человек замечательной души, редкой для столь молодого человека культуры и высокой отваги, Б. А. Ивантер, тогдашний заведующий редакцией журнала "Пионер", а впоследствии его редактор, прочтя отрывки из "Кондуита" в журнале Маяковского, сразу же прислал мне через писателя-лефовца С. М. Третьякова дружеское письмо, в котором просил зайти в редакцию журнала и предлагал сотрудничать в "Пионере".
Идите! - убежденно сказал мне Маяковский. - Там очень хорошие люди работают и интересное дело делают. Обязательно идите туда.
И я пошел в "Пионер". В то время там уже работали М. Пришвин, А. Гайдар, С. Григорьев, А. Кожевников и такие замечательные художники, как покойные Н. Купреянов, В. Фаворский, А. Лаптев и ныне здравствующие А. Коневский, Кукрыниксы. Я в то время был уже сотрудником "Известий", и, признаться, мне в голову даже не приходило писать для детей. Но меня до того весело, оглушительно и приветливо встретили в "Пионере", а сам Ивантер, усадив меня прямо на какие-то акварели, сложенные на стуле, и крича: "Чудак! Вы будете чудно писать для детей", сумел так расписать передо мной перспективы и возможности работы в их журнале, что я решил: дай-ка попробую!.. А попробовав и прочтя первые же письма маленьких читателей, откликнувшихся на мои фельетоны, понял, что лучше и интереснее работы я, вероятно, в жизни уже не найду.
А тут еще Ивантер решил похвастаться мною перед приехавшим из Ленинграда Самуилом Яковлевичем Маршаком. В то время основной отряд детских писателей находился в Ленинграде, где, кроме Маршака, жили К. И. Чуковский, Б. С. Житков, В. В. Бианки, А. И. Пантелеев. Говорили, что детская литература делается в Ленинграде. Ивантеру же хотелось показать, что и в Москве есть кое-кто и делается кое-что. Ивантер считал меня уже кое-кем, а в качестве кое-чего вниманию Маршака были предложены главы из "Кондуита". От Маршака я услышал очень важные и добрые слова и о моих писаниях, и о литературе для детей вообще. Отзыв лучшего детского поэта страны окончательно утвердил меня в моих намерениях.
Так, к немалому огорчению некоторых моих родственников и приятелей, считавших, что мне была определена "более высокая участь", я стал детским писателем. "Кондуит" был напечатан полностью в "Пионере". Там же были впоследствии помещены целиком и отдельными главами почти все мои повести. И вот уже лет двадцать я состою членом редколлегии этого старейшего журнала наших пионеров.
По совету Маяковского я продолжал работать в газете. Газета приучала, берясь за работу, сердиться или радоваться вместе со всей страной. Она заставляла скупиться на слова, писать просто, ясно, коротко и дельно. Она внушала отвращение к литературе-соске и порождала уважение ко всему реальному, подлинному, питательному... В этом, собственно, я всегда и видел "школу Маяковского".
Нет, я не пробовал становиться на цыпочки, чтобы дотянуться до него ростом. Смешно, и только, было бы пыжиться, напуская на себя басовитость, и, срывая голос до истошных "петухов", ворочать, как это делали иные, по ступенькам нарубленных под Маяковского строк гороподобные образы, которые одному ему и были по плечу...
Безмерно счастливый тем, что мне так повезло в жизни и я оказался в зоне могучего и непосредственного человеческого влияния любимейшего из поэтов, одаренный его дружбой, я видел прямо перед своими, никогда от него не отрывавшимися глазами великаний подвиг труда и поэзии – той, чьи «мозолистые руки» веками будут лизать «подползающие поезда»… Я проходил у Маяковского дерзостную науку предчувствий будущего, беспощадную выучку гнева и радостно-требовательную школу его любви. Я видел, с какой ошеломляющей наглядностью в работе Маяковского литературное дело становилось, как завещал Ленин, частью общепролетарского дела. Я прислушивался, как бьется это сердце, в котором было просторно и самой Вселенной. Жадно присматривался к тому, с каким могущественным умением поворачивает, стесывает, наращивает, обрабатывает, формует мастер слово, то наполняя его биением набата, то обнажая его сокровенную нежность, чтобы слово это всей силой и правдой своей служило революции.
И мечталось приучить себя, подобно ему, быть всегда, как говорили летчики-истребители, "в готовности No 1", то есть жить, работать, оставаться всегда нацеленным, по верхнюю черту заправленным, полностью заряженным, чтобы при первом же сигнале тотчас взвиться в бой!
Друзья часто за глаза называли Маяковского - сокращенно и величательно Маяк. Маяком он и был для нашего литературного поколения. И как бы мы порою мелко ни плавали, но все же править старались на этот огнемечущий маяк, который распорол небо мировой поэзии "отсюда до Аляски", а нам, счастливцам, выстелил своим великодушным светом первые наши шаги в литературе. Встреча с Маяковским стала самым главным, бесповоротно решающим событием в моей жизни.
Итак, как советовал Маяковский ("Не воротите носа от газеты, Кассильчик!"), я не уходил из журналистики. Девять с лишним лет проработал в "Известиях". Начал я с небольших репортерских зарисовок, а через год-другой выступал уже с большими корреспонденциями, очерками, фельетонами.
Я много ездил, летал, плавал, путешествуя с корреспондентским билетом "Известий" по родной земле и за ее пределами. Жил в пограничном колхозе бывших кавалеристов Котовского. Летал встречать в воздухе "Цеппелин". Участвовал в большом походе советских глиссеров, в испытательных перелетах новых самолетов и дирижаблей, на одном из которых чуть не погиб, когда мы заблудились в тумане и едва не запутались над Окой в высоковольтной сети... Встречал на аэродроме Димитрова, вырванного из фашистского застенка после знаменитого Лешщигского процесса. Спускался в первые шахты строившегося московского метро. Дни и ночи торчал на аэродроме, где готовился старт первого советского стратостата. Гостил в Калуге у Циолковского, с которым переписывался потом до последнего дня его жизни... Провожал в исторический полет Чкалова. Первым встречал на границе прославленного ледового комиссара О. Ю. Шмидта, вырвавшегося из ледового плена. Плавал по только что открытому Беломорско-Балтийскому каналу. Вместе со сборной командой СССР ездил на футбольные состязания в Турцию и на обратном пути угодил в кораблекрушение, когда наш пароход штормом выбросило на мель у румынского мыса Мидия... В составе экипажа теплохода "Комсомол", вскоре потопленного крейсером "Канариас", плавал в Испанию во время нападения франкистов на Испанскую народную республику. В Москве искал уличные объявления о продаже вещей и ходил по указанным в них адресам, чтобы подсмотреть жизнь "с изнанки"...
В очерках, фельетонах и рассказах, в книжках для ребят я описывал планетарий и фабрику-кухню, заседания матчи, вокзалы и станции "скорой помощи", детские: сады и заводы, кооперативы и музеи, сессии академий и тиражи государственных займов, больницы и аэродромы, парады и водопроводы, корабли и детские сады - все великолепное разнообразие нашей новой, неисчерпаемо огромной, трудной и взволнованной действительности, о которой мне хотелось рассказать всем, и прежде всего маленьким...
Хотелось мне также досказать еще кое-что моим читателям и о своем собственном детстве. Детство мое было долгие годы расхвачено напополам гимназическим кондуитом и Швамбранией, выдуманной страной, которую мы открыли для себя с братишкой, чтобы скрываться в ее утешительных просторах от тех многих обид, что наносил нам старый мир взрослых. Ей, как будтошней стране, стране-соске, я посвятил свою вторую большую книгу, так и назвав ее "Швамбрания" (1931). Я попытался в ней весело, может быть, даже с мальчишеским озорством, изобразить старые смешные интеллигентские идеалы, царившие в методах нашего воспитания, и рассказать о первых годах новой советской школы; о том, как свежий ветер Октябрьской революции вторгся в мир старой семьи и старой школы, о том, как новая действительность оказалась увлекательнее старой сказки. Революция истребила кондуиты и, предъявив замечательную свою реальность, сделала ненужной Швамбранию. Революция вторглась в биографию докторского сынка, подняла ее, переворошила, внесла в нее неповторимость своего времени, дала право быть обсказанной языком искусства и закрепиться в живых образах, в книгах личной судьбы, совпавшей с судьбой, ошибками и прозрениями известной части моего поколения.
Мне не раз крепко и обидно доставалось от так называемой литературно-педагогической критики. Ругали меня: за "ложную занимательность"; за "ложную романтику"; за "засоренность языка" моих героев; за "антипедагогизм", то есть неуважение к старшим, и за иные смертные грехи, в которые я впадал, по мнению некоторых неулыбчивых критиков. Повинен ли я на самом деле в этих грехах или на меня возвели напраслину скукодеи, кашевары пресной назидательной размазни, поставщики сосок двора ее высочества царевны Несмеяны, - судить не мне... Но я всегда старался найти хоть что-нибудь справедливое и, значит, полезное для себя даже в самой отчаянной ругани. И думаю, кое-что из этого пошло мне на пользу.
Но как порой трудно ни приходилось, никогда я не жалел, что выбрал для себя путь, ведущий к ребятам. Мне всегда интересно быть с ними. Я и сейчас пользуюсь каждой возможностью, позволяющей встретиться с моими читателями с глазу на глаз и нос к носу. Для этого мне пришлось научиться выступать перед ребятами. Это далось мне не сразу: я робел и перед взрослой аудиторией, куда более смирной, чем детская, да и дикция была у меня от природы нечеткая. Еще на школьных вечерах, когда мне поручали объявить перерыв, я потел от ужаса, язык у меня завязывался узлом, и у меня получалось не то "трактат", не то "контракт", но никак не "антракт"... Тут я тоже многим обязан Маяковскому, который сам был непревзойденным чтецом, как он называл себя - "разговорщиком" на трибуне, и нас призывал к умению лично договариваться с читателями.
Было время на первых порах моей работы, когда я считал самым важным для себя во что бы то ни стало рассмешить моего читателя. Я не отказываюсь от любой такой возможности и сегодня. Ибо вряд ли есть на свете что-нибудь более радостное, чем дружный, веселый ребячий смех. Но уже давно мне стали не менее дороги, чем хохот и аплодисменты, сотни замерших, уставившихся прямо на меня глаз, доверчивая тишина в переполненном ребятами зале, когда слышишь, кажется, как стучат что есть силы сердчишки, до которых удалось добраться... Тут и хочу я сказать о нем, милом моем читателе.
Он всякий. И шумный, непоседливый, такой, что не сразу угомонишь. И весь ушедший в самозабвенное внимание, беззвучно, сам того не замечая, повторяющий за мной то, что слышит. Он смотрит на меня поверх школьной парты, которая ему немножко велика. Он взвивается от нетерпения с кресла в театральном зале. Он забился где-то в отдаленном уголке пионерской комнаты и неуверенно поднял руку: ему очень хочется о чем-то спросить, он не в силах справиться со своим любопытством, но не побороть и неизбывной застенчивости, и лучше бы уж поднятую руку его не заметили... Он встречает меня на большой московской улице, узнает, показывает на меня глазами своему приятелю, попутно пихая его локтем в бок так, что тот охает. И оба они кричат свое радостное:"Здравствуйте!" - заставляя всех прохожих оглянуться.на нас. А потом вдруг через квартал я снова встречаю их обоих, и опять: "Здравствуйте!" - потому что они успели обежать улицу по другой ее стороне, чтобы снова еще раз встретиться...
Он встает, поправляя красный галстук, который кажется пылающим в отблесках лагерного костра, и просит рассказать что-нибудь "из военной жизни". Он рано утром, .чуть свет будя всех моих домашних, звонит у входной двери, салютует по-пионерски и сообщает, что прибыл по неотложному поручению всего шестого "Б", так как у них будет сегодня сбор на тему: "В чем смысл жизни?". Как сказано у Михалкова, "он девочка, он мальчик",- словом, он мой читатель, ненасытный, неожиданный, беспокойный, благодарный, доверчивый, дорогой мой дружок.
Незадолго до войны на Красной Пресне, в зале театра имени Ленина, возле Трехгорной мануфактуры, шел большой литературный утренник для ребят. Выступал, можно сказать, весь генералитет нашей детской литературы. И Самуил Яковлевич Маршак, и Корней Иванович Чуковский, и Аркадий Петрович Гайдар, и Агния Львовна Барто, и Сергей Владимирович Михалков, которого, правда, тогда все еще звали просто Сережей. В этой "могучей" кучке подвизался в тот день и я. Мы выступали очень долго, приободренные раздававшимися то и дело дружными аплодисментами. А потом я решил поговорить с ребятами.
Ну, дорогие дружочки, - сказал я, выйдя на авансцену, - вот ваши любимые писатели и поэты прочли вам свои стихи, рассказы. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы к нам? Давайте выкладывайте, не стесняйтесь!
После некоторой паузы и безмолвного шевеления примерно над пятым рядом поднялась рука, за рукой вытянулась девица, на глаз эдак из четвертого или пятого класса. Несмотря на то что в зале, где сидело примерно тысяча ребят, было очень жарко, девочка оставалась в толстой пуховой шали, как ее, должно быть, укутали дома: вокруг головы, концами крест-накрест на спине и с узелком на поясе спереди.
Внимание! - скомандовал я залу. - Вот девочка в пятом ряду хочет о чем-то спросить у писателей. Ну, прошу!
И в полной тишине раздался чистый, очень звонкий голосок:
Кино скоро будет?
С того дня я перестал чересчур доверяться ребячьим аплодисментам. Здоровому мальчишке куда легче похлопать ладонью о ладонь, чем тихо высидеть четверть часа. Но у меня есть давно уже другой измеритель степени внимания зала. Вот когда все в зале замирает и на тебе, словно радужные зайчики, сходятся отблески сотен внимательных глаз, - вот в эти минуты, всегда желанные, где-то в зале раздается легкий звенящий щелчок - дзинь!.. Сначала один, а потом в другом месте еще... И еще... дзинь... дзинь...
Дело в том, что одним из самых величайших несчастий, которые могут мниться моим слушателям, представляется потеря номерка от сданного пальтишка или шапки. Как в таком разе вернуться домой?! И большинство предпочитает держать номерок в руке - так вернее. И вот сначала у слушателей открываются широко глаза, потом рты и, наконец, ладони. И когда в зале падают гардеробные номерки, я спокоен: все в порядке, слушают внимательно... Не стоит обижаться на читателя, если он не твердо заучил фамилию автора. В фамилии какой толк?.. Важнее, чтобы он запомнил книгу.
Как-то я, ожидая начала киносеанса, сидел на скамейке у одного из перекрестков больших аллей столичного Парка культуры и отдыха имени Горького. Сидел, читал газету. Солнце светило из-за спины. И вдруг оттуда наползли две тени. Одна длинная, другая покороче. Не оглядываясь, я пригласил:
Ну что вы там хоронитесь на задворках? Заходите с парадного крыльца.
Передо мной появились две школьницы. Коротенькая сказала:
Здравствуйте. Мы вас знаем.
Очень хорошо. И откуда вы меня знаете?
Вы... этот... - пробормотала высокая. - Вы... Кондуит.
Коротенькая сердито дернула ее за юбку и поспешно поправила:
Лев Кондуит!
А сколько раз уже приходилось мне при встречах где-нибудь в школе слышать:
Здравствуйте, Лев Швамбраныч!..
Но однажды получилось и так. Мы с Сергеем Михалковым приехали в 22-й детский дом Москвы за Таганской площадью, чтобы принять шефство над ребятами. Мы немножко опоздали, и детей уже уложили на ночь. Однако директор детдома, симпатичная и радушная женщина, предложила нам пройти в одну из спален, где ребята постарше еще не заснули.
Ну вот, мальчики, - с некоторой торжественностью объявила директор, вводя нас в комнату и зажигая свет. - Видите, писатели не обманули вас. Они приехали. Вы их, конечно, все хорошо знаете. Вот это кто? - Она показала на Михалкова. - Это Сергей... Ну?..
Михалков, - ответили из разных углов.
Правильно, - сказала директор. - А это? - Она указала на меня. - Это... Лев...
Толстой! - послышалось из-под нескольких приподнявшихся одеял.
Заканчиваю одну из читательских конференций в районной детской библиотеке.
А после читательской конференции по трем моим книгам, когда я уже выходил из школы, какой-то мальчонка, все время скромно следовавший за мной в некотором отдалении, вдруг, видно, решился, забежал вперед, обернулся и, обмирая от уважения, спросил: После большого авторского утренника в Доме пионеров: - А Павлика Морозова вы видели?
Рассказываю, что Павлик погиб еще тогда, когда я не занимался литературной работой. И тут же замечаю, что в углу зала все тянется вверх чья-то нетерпеливая рука. Делаю знак. Поднимается тугощекий мальчуган. Смотрит на меня с безграничным доверием:
Лев Кассиль... А вы были лично знакомы с Гаврониным?
Но, пожалуй, самый большой эффект произвел я, выступая в одном из кино близ завода имени Лихачева. Дело было на каникулах. Меня попросили выступить перед началом сеанса. Я очень не люблю такие выступления: ребята пришли смотреть фильм и относятся к тебе, как к помехе, возникшей перед экраном. Но кому-то понадобилось поставить в ведомости о проведении детских каникул галочку в графе: "Выступление писателя". И я со скрипом душевным согласился.
А накануне у меня стали ручные часы. И я отдал их поправить в мастерскую. Пока же пришлось надеть на руку запасные. По дороге на выступление я заехал в мастерскую и получил уже починенные часы, которые надел на свободную руку.
Выступление проходило, как я и ждал, ужасно. Что я говорил, не слышно было даже мне самому. В переполненном зале занимались выяснением взаимоотношений между разными рядами, причем дело не ограничивалось одними лишь пререканиями... Я с тоской поглядел на часы, бывшие у меня на левой руке: сколько еще для приличия надо постоять на эстраде?.. Мне казалось, что я торчу перед экраном не менее четверти часа. Но выходило по часам, что я начал лишь пять минут назад. Чтобы проверить это, я взглянул на исправленные часы, которые были у меня на правой руке. И сличил время. Я непроизвольно свел перед собой руки, и жест этот произвел чудо. Зал мгновенно замер. Наступила такая тишина, будто все разом покинули помещение кино. Я даже с опаской поглядел в зал. Но все были на своих местах. Тогда я негромким голосом прочел новогодний рассказ. И ушел со сцены на цыпочках, провожаемый, однако, такими овациями, что у меня постепенно отвердел шаг.
Вечером мне позвонил мой знакомый инженер завода имени Лихачева:
Здравствуй! Ты, оказывается, у наших ребят сегодня выступал? Ну, брат, потряс ты... Сынишка пришел, всем рассказывал: "Вот к нам сегодня писатель приезжал... До того занятый, что двое часов на нем! Так все время и проверяет!"
Мне часто приходятся бывать у больных ребят, надолго прикованных к постели. Однажды пришлось принимать военно-морской парад, который в санатории у Серебряного бора, па окраине столицы, придумали сами малыши, прочитав мою книжку "Далеко в море". Да, это был парад, парад с торжественным маршем, и с подъемом флага, и с музыкой. Но двигался только принимавший парад, то есть я. А все участники, с приколотыми на груди к рубашонкам сине-белыми треугольниками, вырезанными из бумаги наподобие матросских воротников, оставались распростертыми на кроватях. Они козыряли, играли на гребенках, изображая корабельных оркестрантов, поднимали над койками цветные флаги по протянутым через палату веревкам, рапортовали мне. А я шагал между кроватями, отдавал честь и принимал этот удивительный парад, думая, что нет, не зря, не напрасно пишутся книжки.
А однажды я получил письмо из подмосковного туберкулезного детского санатория "Красная Роза", возле Балашихи, где я бывал несколько раз до этого. На долгие годы обреченные лежать, пионеры одной из палат санатория просили у меня разрешения присвоить звену их в пионерской дружине мое имя... Мог ли я отказаться от этой высокой, вряд ли заслуженной и в чем-то печальной чести? И часто потом, если у меня, как и у всякого, случались неудачи и приходили трудные дни - такие, когда все хочется бросить к черту, вспоминал я вдруг, что больные ребята, которым куда тяжелее, чем мне, одарили меня таким доверием... И стыд за свою слабость пожирал меня. Снова яростно брался я за работу, чтобы хоть как-нибудь оправдать эту веру читателя. Великое это дело - доверие читателя! Перед самой войной передавали впервые по радио мой рассказ "Есть на Волге утес". Трагическую историю жизни безвестного волжского грузчика - певца Леонтия Архипкина, по прозвищу "Громобой", потерявшего когда-то свой могучий бас из-за того, что пьяные купцы спалили ему кислотой горло. И вот в рассказе говорилось о том, что пионеры, найдя уникальную грампластинку, однажды записанную с голоса Громобоя, вернули позабытую славу человеку. Пел за моего героя в радиопередаче народный артист СССР Максим Дормидонтович Михайлов.
Через неделю после передачи меня вызвали в радио и вручили мне денежный перевод из города Грозного. На обороте перевода в графе "Для письменного сообщения" я прочел: "Дорогие радиодикторы. Мы слушали Льва Кассиля "Есть на Волге утес". И провели в Доме пионеров сбор в пользу Леонтия Архипкина, по прозвищу "Громобой", т. к. голос у него пропал и жить ему наверное не на что. Поэтому посылаем собранные 13 р. 65 к.". Вот он каков, дорогой наш читатель. Мало того, что убежденно поверил в подлинное существование героя, но еще преисполнился сострадания к нему и счел своим прямым гражданским долгом помочь старому, обездоленному человеку в нужде! Не было для меня в жизни выше награды, чем этот перевод из города Грозного на 13 рублей 65 копеек (я ответил на него посылкой с книгами), и нет на свете лучше читателя, чем тот, которого я вижу перед собой, когда берусь за работу.
Дядя, - спросил меня в библиотеке как-то один из школьников, держа наготове тетрадку, чтобы записать мой адрес, - дядя, вы где живете? В Кремле?
По какому же высокому адресу прописана в его представлении наша книга, наша литература! Вот и думаю я всю жизнь, как оправдать такую прописку! И пишу для этого читателя, достойного самой лучшей литературы, такой, о которой я сам лишь мечтать могу... Пишу, как в силах, как умею, дорогим моим мальчишкам и девчонкам книги об их же открытых, веселых и жарких сердцах, полных дерзания, упрямой мечты и необоримой жажды подвига, чтобы победили в мире справедливость и красота. И нет для меня на свете дела важнее и прекраснее!
Мне думается, что автобиография писателя может быть им вполне законно оборвана на тех книгах или моментах его жизни, которые он сам считает в какой-то мере определяющими его литературную судьбу. Остановлюсь, пожалуй, тут и я.
Конечно, можно было бы еще рассказать, например, о спортивном романе "Вратарь Республики" (1937), о "Черемыше, брате героя" (1938), о "Дорогих моих мальчишках" (1944), о книге "Маяковский - сам" (1940), о большой повести "Великое противостояние" (первая часть которой вышла в свет за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны и была продиктована тревожным ощущением надвигавшейся грозы, а вторая - "Свет Москвы" - появилась в печати к 800-летнему юбилею столицы в 1947 году и получила первую премию на конкурсе Министерства просвещения РСФСР).
Следовало бы, конечно, остановиться на документальной повести "Улица младшего сына", написанной в 1949 году в содружестве с журналистом М. Поляновским. Удостоенная Сталинской премии, она познакомила наших, а потом и зарубежных читателей-школьников с тем, как рос до войны в городе Керчи, в семье моряка-коммуниста обаятельный мальчишка, пионер Володя Дубинин, ставший во время войны отважным разведчиком подземных партизан, как формировался под влиянием родных, старших друзей, товарищей по пионерскому отряду чудесный, исполненный благородной силы характер этого подлинного «младшего сына» коммунистической партии и социалистической отчизны.
Надо было бы, вероятно, упомянуть и о повести "Ранний восход" (1953), в которой я стремился продолжить рассказ о слиянии двух наиболее для меня дорогих и важных черт в душевном облике молодого поколения - начал творческого и героического. Таким же родным, как и Володя Дубинин, стал для меня непридуманный, живший на самом деле и тоже безвременно погибший маленький, но феноменально одаренный художник Коля Дмитриев.
Можно было бы рассказать еще о многих поездках и путешествиях, о ряде замечательных встреч, о незабываемых часах, проведенных у Алексея Максимовича Горького, о свидании с Роменом Ролланом, сказавшим мне очень дорогие и важные слова про "Швамбранию" и некоторые мои рассказы.
Надо было бы, возможно, рассказать кое-что и о корреспондентской работе во время войны на сухопутных фронтах и в Заполярном флоте. И о многолетней работе у радиомикрофона, за которую я удостоен звания и знака "Почетный радист СССР": о передачах с Красной площади и "Под часами с кукушкой" за "Круглым столом", радиопредседателем которого я был довольно долго... И о наших новогодних елках в Колонном зале Дома союзов и в Большом Кремлевском дворце, где я в течение нескольких лет выполнял функции литературного деда-мороза. И о моих студентах в Литературном институте, где я стараюсь избавить начинающих от тех ошибок, без которых не обошлась моя собственная молодость.
И хорошо было бы, наверное, вспомнить о послевоенном плавании на кораблях нашего флота вокруг Европы летом 1946 года - об этом и была написана для ребят книжка "Далеко в море", а в 1947 году, вместе с моим спутником Сергеем Михалковым, книга для взрослых - "Европа слева". И о другом плавании, когда Европа была справа... И об увлекательной поездке в Италию на Белую Олимпиаду в Доломитовых Альпах, на VII Зимние Олимпийские игры в Кортина д"Ампеццо, после чего я смог завершить, наконец, долго писавшийся спортивно-приключенческий роман "Ход Белой Королевы" (1956)... И о зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли, в горах Сьерра-Невады, и о Белой Олимпиаде на тирольских кручах в Инсбруке, и об олимпиадах в Риме и Токио, где я работал специальным корреспондентом. Не мешало бы сообщить о поездке "с Маяковским" по Италии в 1958 году, когда довелось поколесить от Сицилии до Генуи, рассказывая о поэте в Палермо, Неаполе, Риме, Равенне, Милане, Альфонсине и т. д.
Стоило бы, пожалуй, сказать о книжке "Дело вкуса" (1958), которой я на основании 20-летнего опыта публичных бесед с молодежью на эти темы рискнул вторгнуться в сферу эстетического воспитания, борьбы с пошлостью, мещанством, безвкусицей... И хорошо было бы назвать нелегко давшуюся мне книжку "Про жизнь совсем хорошую" (1959), где я попытался заглянуть в коммунистическое будущее и помечтать о завтрашнем нашем дне вместе с моими читателями, которые своими письмами и надоумили меня написать об этом.
Под конец, по всей вероятности, законно было бы назвать роман "Чаша гладиатора" (1961), роман с приключениями, переживаниями и путешествиями, и маленькую повесть "Будьте готовы, Ваше высочество!", в которой я "открыл" для себя и читателей третью, после Швамбрании и Синегории, страну - Джунгахору.
Но я позволю себе лишь хитро упомянуть обо всем этом: боюсь, что, говоря подробнее, можно утратить спасительное чувство юмора, без которого трезво смотрящий на вещи человек не рискнет говорить о себе. И потому предпочитаю, чтобы вразумительнее и подробнее про все вышеупомянутое писал бы кто-нибудь другой...
«Из заветов моим детям»:
За все, что происходит в мире людей, отвечаешь и ты. Не отказывайся от ответственности, это и есть совесть.
Самое дорогое на свете – время. Оно и есть мера твоей жизни, протяжённость твоего существования. Не скупись, однако, не забирай всё время твоё себе, делись щедро с другими. Тогда и то время, что останется тебе самому, даст больше.